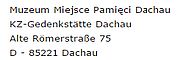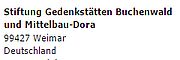Слесарева (Викторовская) Надежда Ивановна
 Я родилась 23 сентября 1930 года в городе Днепропетровске, жила с родителями по ул. Карла Либкнехта, 9.
Я родилась 23 сентября 1930 года в городе Днепропетровске, жила с родителями по ул. Карла Либкнехта, 9.
Из детских воспоминаний: на территории двора рос огромный развесистый каштан, по которому лазили мои сверстники, мальчишки и девчонки. Старшие дети внушали нам, глупым малым, что, если зарыть под каштаном денежку, то вырастет целое дерево монет. Но ни для кого из нас оно так и не выросло.
У меня была няня, красивая девушка с длинной толстой косой, Мотя. Мотю мои родители взяли к нам после того, как вся её многочисленная семья погибла от голода в 1933 году.
Квартира у нас была хорошая, большая. У окна стоял папин рабочий стол, покрытый зелёным сукном, на нем лежало толстое стекло. На столе стоял глобус, благодаря которому мы с папой “побывали” в разных странах, на разных континентах, плавали и купались в реках и морях всего земного шара.
Мой отец имел образование агронома и был одним из руководящих работников в облисполкоме. Дома бывал редко. Работал много и много времени проводил в разъездах по области. Зимой возвращался домой в тулупе и битых валенках, при нем всегда было ружье с двумя стволами. Папа его разбирал и чистил. Иногда с охоты привозил зайцев и уточек. Мне всегда было их жаль. Я их гладила и плакала, и кушать их отказывалась. Ещё помню, в раннем детстве мы плыли с мамой на двухпалубном пароходе по реке Орель, её красивые живописные берега хорошо сохранились в моей памяти. Мама говорила, что тогда мы ездили на её родину, в село Могилев, того же Царичанского района, откуда был родом и мой отец. Родители мои происходили из потомственных учительских семей, которые попали в этот район в разное время и по разным причинам.
Когда у папы было свободное время (а это случалось редко), он усаживался в плетенное кресло-качалку, ставил меня на свои ноги и долго качал, рассказывая всякие интересные истории про животных и зверюшек, при этом много смеялся. Я всегда его очень ожидала. Он был стройным, высоким и очень добрым человеком.
Всегда мне что-нибудь приносил. Когда он бывал дома, к нам приходило много гостей, они часто приводили с собой детей.
Мама была очень занята — утром уходила на работу в школу, а вечерами — учеба в институте. Она очень уставала, говорила, что у неё в классе 40 учеников.
Летом 1937 г. папа уехал в Киев. Мама сказала, что он получил новую интересную и очень ответственную работу. Его назначили одним из заместителей наркома земледелия. Дали квартиру на Крещатике.
В это время я с мамой отдыхала в селе Паньковке, в доме отдыха возле Днепропетровска. Там нам было очень хорошо. Мы всё время были вместе, днем загорали, спали, читали книги, а вечером ходили в клуб и парк, где местная молодежь, одетая в украинские костюмы, очень красиво пела и танцевала украинские танцы.
Через некоторое время из Киева в Днепропетровск вернулся папа и срочно нас вызвал с отдыха. Начались приготовления к отъезду в Киев. Мама получила в институте справку для перевода в Киевский ВУЗ, уволилась с работы. В один из вечеров у нас состоялась прощальная встреча отца с сослуживцами и городскими ответственными работниками. Их было много.
Далее произошло то, чего я не забуду никогда. К нашему дому подъехало несколько машин, их называли “черным вороном”. Всех гостей арестовали и увезли. Отца, маму, меня и Мотю не тронули. Это все произошло у меня на глазах. Отец на следующий день уехал в Киев, а мы с мамой в Паньковку. А через несколько дней маму вызвали в Днепропетровск. Вернулась она вся в слезах и сказала: — Наночка, (так меня звали в детстве), у нас большое горе, больше нет папы!
Согласно официальной справки СБУ от 20 ноября 1965 года его арестовали 7 июня 1937 года, а решением выездной сессии Верховного Суда СССР от 16 сентября 1937 года он был безосновательно осужден за якобы проведение антисоветской, террористической деятельности, за совершённые преступления. По статьям 54-8, 54-11 КК УССР был приговорен к расстрелу, с конфискацией принадлежащего ему имущества. Приговор был исполнен на следующий день, 17 сентября 1937 года. Место захоронения тела отца, по заявлению КГБ Украины, установить нельзя. Поэтому святым местом его успения я, как и многие люди Украины и других стран, потерявшие в сталинских застенках своих родных, считаю Быковнянский лес. Проблеме благоустройства территории захоронений невинно убитых наших людей посвящена моя статья в газете “Столица” № 87 от 2 ноября 1999 года “В Биківні треба створити національний меморіальний парк, яким йому бути”.
После ареста отца у нас не стало ни его, ни его родственников. Из них к нам никто не пришел, не проведал. Как-то на улице мама увидела, что на другой стороне идет родной старший брат моего отца, директор школы. Мама поздоровалась, но ей показалось, что он её не заметил и поэтому не ответил на её приветствие. Она перешла дорогу и пошла ему на встречу. И тут он изрек: “Прасковья Арсентьевна, ко мне не подходите”, а мама ему “Терентий Леонтьевич, я же жена Ивана, Вашего младшего брата”. Он ей ответил: “Что ни говорите, а дыма без огня не бывает”.
Вот мы и остались без поддержки папиных родственников и их семей. Никто не приехал, не поддержал и ничем не помог. Даже те из них, кто жил в селе. Зато мамины сестры стали нашей опорой и навсегда моей семьёй.
После ареста отца меня с мамой неоднократно перебрасывали с одной квартиры на другую, к таким же разрушенным семьям. Это были квартиры сослуживцев папы — Атанасова, Немежанского, других не помню. Последнее место нашего проживания в нашем городе — в Чингарском переулке, в районе Красноповстанческой балки, у семьи Немежанских.
Мы остались полностью без средств к существованию. Наша Мотя всё время плакала. Она была у моих родителей как дочь, но мама её уговорила, и она уехала в своё родное село — Царичанку.
Это были наши последние дни вместе с мамой. 9 сентября 1937 года, мне не исполнилось ещё семи лет, а меня уже лишили и мамы.
В этот день нас с мамой посадили в “черный ворон” и повезли: маму в тюрьму, что была на Чечеринской улице, а меня — в детский дом “для детей врагов народа”, на улицу Философскую, дом №29. Я не помню, кого высадили раньше — меня или маму. Это так и осталось для меня навсегда неизвестным. Даже много лет спустя, чтобы не сделать моей маме больно, я не задала ей этот вопрос. И всегда, когда я вспоминаю этот момент нашей насильственной разлуки, меня пронизывает неимоверная боль за страдания матерей и детей, которые выпали на их долю в те страшные времена!
Анализируя те годы, я с ужасом, на примере только своей разрушенной семьи, понимаю, какого страшного монстра вырастила лживая, подлая пропаганда. Того, который загубил в своей стране во время голодомора и под видом врагов народа лучших людей из рабочих, крестьян, талантливых руководителей, ученых, военноначальников! Да будь они живы, никакой бы Гитлер не посмел бы тронуть нашу страну! И наши люди не остались бы лежать навечно в противотанковых рвах, не горели бы в печах крематориев, не стали бы подопытными кроликами у “врачей — экспериментаторов” третьего рейха. Мы бы не испытали унизительного рабского труда в качестве “цванцарбайтеров”. А за нашу свободу не была бы пролита кровь миллионов солдат и офицеров, сыновей и дочерей нашего народа!
Мою бедную маму, арестованную и осужденную как жену врага народа, довели до пилагры на каторге “Сиблага”. Оттуда, после восьми лет пребывания на исправительных работах, она вышла инвалидом, человеком уничтоженным физически и психически. А после войны, возвратившись из Сибири в свой родной Днепропетровск, она получила право проживать лишь в “30-ти километровой зоне”. К своей же учительской деятельности смогла возвратиться лишь после реабилитации в 1956 году.
В “детском доме” я оказалась в огромной клетке со стенами белого цвета, на фоне которых особенно выделиялись железные кровати, покрытые противными, жесткими, серо-зелёными одеялами. Кроватей очень много, 30 или 40. Меня охватил детский ужас от всего, что там происходило, и тоска по дому.
Без родных, насильственно оторванные от семей, мы кричали, дрались, плевались. Что бы успокоить детей, особенно перед сном, когда наступал уже отбой, “воспитатели” нас били, иногда били зверски. Ребенок, защищаясь, натягивал на себя одеяло, а его били. На утро многие ходили с синяками на лице и теле, а случалось, что утром на этой кровати уже никого не было. Тогда нас охватывал ужас. Ползли страшные слухи. Некоторым старшим детям удавалось убежать, несмотря на то, что территория была обнесена высоким забором и охранялась. Так убежал знакомый мальчик — Шура Атанасов, старший меня на 5 лет, сын папиного сослуживца. Мы жили в одном доме до ареста наших отцов. Убежал к своей тете Лизе в город Мариуполь. У нее не было семьи, она была врач-терапевт. Позднее, уже после войны, моя мама узнала, что он закончил летную военную академию.
Меня из этого ада вырвала сестра моей мамы. И то только тогда, когда получила документ об официальном моем удочерении. При этом она поручилась, что воспитает из меня человека, достойного, верного политическим взглядам партии и правительства.
В семье моей тети, теперь уже новой мамы, и дяди мне было тепло и уютно. Мы ждали, что скоро Иосиф Виссарионович Сталин накажет тех, кто неправильно разрушил семьи полезных Родине людей, вернет мне маму и папу. Таков был тогдашний менталитет нашего народа.
А после перевоспитания в “детском доме” мои приемные родители долго приводили в нормальное состояние мое здоровье и психику. Я и сейчас вспоминаю, как всякий раз, когда мы с тетей Леной проходили места, где я бывала с мамой, особенно в гастрономе на проспекте Карла Маркса, с лампами в виде виноградных гроздьев, я рыдала и умоляла тетю пустить меня к маме. И такое бывало часто. Сколько я пробыла в этом “детском доме”, так я и не знаю. От воспоминаний того периода жизни меня бросает в дрожь.
Тетя была, как и моя мама, учительницей, и я стала ходить с ней в её школу. Ночами мы всегда ожидали, что за дядей приедет “черный ворон”, у него всегда были приготовлены рюкзак с продуктами и документы. К счастью это горе нас миновало. Видимо потому, что он был просто рабочим.
Мои тетя Лена и тетя Шура, сестры мамы, собирали посылки с сухой колбасой, сахаром, салом и сухарями и отправляли их в Сибирь, маме. Посылки разрешено было посылать раз в три месяца, но я помню, что однако до войны им удалось послать только 3 посылки по 3 килограмма весом.
Я постепенно привыкла к новой семье, новому дому, хотя кошмары еще очень часто по ночам мучили меня. Особенно мне запомнился страшный сон, который когда-то видела моя мама и рассказала тете Шуре еще до ареста. Приснилось ей три черные ямы, выкопанные в поле, она подходит к ним и говорит, показывая: — Первая для Ивана, вторая для меня, а третья для Наночки. Я до сих пор вспоминаю этот страшный сон моей мамы с содроганием.
Потом начались новые страдания.
Диктор Левитан оповестил по радио, что началась война. Была объявлена всеобщая мобилизация. Мы все сразу забыли все прошлое. В городе поднялась паника. В магазинах раскупили все, даже застарелые, лежавшие годами пачки кофе “Бодрость”, даже фруктовый чай (который потом мы грызли и таким образом утоляли голод).
Фронт приблизился очень быстро. Мы с тетей приготовили баул, рюкзак и еще какие-то торбы и отправились на вокзал. Дядя должен был эвакуироваться с галалитовым заводом. Он был рабочим высокой квалификации. Вокзал кишел огромным количеством народа, тут были и парни в военной форме, и девушки-медсестры. В центре вокзальной площади — множество людей, эвакуировавшихся из западной Украины и Белоруссии. Среди них, в основном, были евреи необычной для нас внешности, с пейсами, бородками и специфической стрижкой, что обращало на себя внимание всех даже в тех условиях нервозности что была в ожидании эвакуации. Тетя оставила меня на вещах, а сама побежала в билетные кассы.
Над вокзальной площадью на протяжении нескольких часов слышался гул самолетов, делающих круги высоко в небе над городом. А затем все вдруг изменилось — более десятка самолетов со страшным свистом начали пикировать и на бреющем полете стали расстреливать из пулеметов людей, находящихся на вокзальной площади. Где-то недалеко полетели на город первые бомбы. Позже мы узнали, что разбомбили мосты и из города никто уже не смог уехать. Врагу досталось все — и заводы, и люди.
Самолеты продолжали расстреливать беспомощных людей на вокзальной площади. Вокруг раздавались страшные, душераздирающие крики, плач, стоны. От взрывов фугасных бомб стоял сплошной туман. Я, огорошенная происходящим вокруг, сидела под деревьями на своей фанерной коробке и других вещах, пока находящиеся рядом девочки-медсестры меня не перекинули на землю и накинули на голову чемодан. Потом прибежала тетя Лена, мы схватили вещи и бегом бежали по проспекту, в дыму от разрывов фугасных бомб, мимо разбитых бомбами домов, разрушенных хлебозавода и Управления дороги.
После этого в городе началась повсеместная паника. Люди разбирали и грабили склады, фабрики и заводы. Недалеко от нас были конфетная и макаронная фабрики. Помню, что многие из нашего двора таскали ведрами домой грязно-черную патоку из сахарных буряков, которая была разлита по полу какого-то цеха на конфетной фабрике.
Страшное было время.
Город заполонили немцы и румыны. Мы, дети, перепуганные, но любопытные, собравшись кучками, наблюдали и обсуждали все происходящее вокруг. Немцы были на мотоциклах, с небольшими саперными лопатками, румыны в большинстве были малого роста, коренастые, в форме цвета хаки, носили круглые фуражки, а на боку, на ремне, большие пистолеты. В городе непрерывно стояла орудийная канонада. Наши стреляли в немцев (по нашему городу) со своих позиций за Днепром, а немцы стреляли по нашим за Днепр. Все это длилось около месяца.
Питьевой воды в городе не было. Мы под снарядами бегали к прудам, которые были отравлены “парижской зеленью”. Эту воду вываривали, как-то фильтровали и пили понемногу. Люди нашли за городом пропитанную спиртом глину и выгоняли из нее спирт. Наши войска при отступлении, чтобы спирт не достался врагу, из цистерн выпустили его на землю. После того, как прекратилась оружейная канонада в городе, возле железнодорожного вокзала образовался стихийный базар — “Озерка”. Там было все. Крестьяне за продукты выменивали у нас носильные вещи, кастрюли и даже, помню, мы поменяли табуретку на кусок кабака (тыквы). “Гливкой” хлеб, выпекаемый из какой-то мешанки: молотые качаны кукурузы с житной мукой жители города получали по карточкам. Где брали карточки, не помню. Но для нас и это было счастьем. Все люди ходили хмурые и голодные. Трудоспособные мужчины разбрелись по селам. Там находили себе работу по хозяйству. Кто чинил крышу, кто копал силосные ямы, колодцы. Убирали урожай, за это приносили кой-какие продукты: сахарные буряки, картошку, зерно. Но и то не всегда. Часто в пути нападали на людей негодяи и отбирали заработанное. Так было и с моим дядей. Он заработал зерно за то, что с одним стариком выкопали в селе колодец, а полицаи забрали у них все заработанное и побили. Прожить было очень трудно. Город голодал. Умирали многие. Было много туберкулезных. В нашем дворе у одной бабушки умерло три взрослых сына. Навсегда запомнилось, как она кричала вечером на весь двор: “Умер мой сын, умер мой сын Коля!”. Все ее сыновья были больны туберкулезом, все умерли и последним умер младший — Коля.
Воспользовавшись таким состоянием жителей города, немцы развесили афиши с предложением для молодежи ехать на работу в Германию. Говорили, что поехали многие. Однако, видимо, было не так. Потому что немцы стали устраивать облавы и в Германию людей увозили насильно. В городе стало страшно ходить по улицам. Молодежь пряталась. Людей стали насильно вызывать в управу по повесткам, с угрозами применения санкций, вплоть до уничтожения, к родственникам! Что делалось в городе — дети знали все! Мы знали, в каком дворе румыны забивают скот, куда привозят овощи. Бегали и добывали себе какие-то отходы — копыта, требуху, подгнившую картошку, буряки, капусту. Иногда целые качаны пригнившей кукурузы. Их высушивали и пропускали через мясорубку — делали кукурузную крупу, и варили кашу.
Не было соли.
Потом город охватило ужасное известие: всех евреев будут убивать. Объявили, что утром, на рассвете, все евреи должны со своими документами и ценностями, с лучшими теплыми носильными вещами, выйти на центральные улицы. Многие плакали. Евреев было очень много. Ведь из-за разбомбленных еще в первые дни войны мостов через Днепр, никто не эвакуировался. Но многие из них все же надеялись на лучшее.
Страшное это было зрелище, как их гнали шеренгами, стареньких, молодых женщин с детками на руках. Все они оказались в противотанковых рвах за городом, там и остались лежать навечно.
Весной на город пошел зловонный запах. Немцы делали облавы и гоняли туда мужчин загребать рвы с разлагающимися телами. Говорили, что немцы отбирали в гестапо, которое размещалось в здании НКВД, красивых молодых евреек. Что с ними было дальше, никто не знал. Только мы слыхали, что одну из них, ее звали Гися, и она жила не далеко от нас, привязали к двум машинам и разорвали.
Моих сверстников эти известия и слухи приводили в ужас. В хлебном магазине, где мы получали пайки, стоял мальчик-еврей. Он спасся при расстреле, вылез из-под трупов. Все его очень жалели, давали кусочки хлеба. Никто не знал ни его имени, ни фамилии, ни где он жил. Он просто стоял и молчал. И уже перед самым отступлением немцев из города какой-то мерзавец его выдал. Куда и когда его забрали, неизвестно. Люди, которые помогали этому мальчику, проклинали того подлеца, который это сделал.
Наши войска были близко. Мы все жили радостным ожиданием освобождения. Но в один из сентябрьских дней 1943 года по радио прозвучало объявление: “Всем покинуть город и идти в направлении села Сурско-Михайловское”. Были названы сроки 21.09, 22.09 и 23.09 (наш день был 23.09 — это день моего рождения, поэтому эту дату я хорошо запомнила). Многие поступили правильно, подчинившись этому приказу, и не попали на каторгу в Германию. А мы спрятались в подвале, думали, что обойдется. А все получилось наоборот! В эти дни уже шли люди, угнанные с другого берега Днепра, из поселков Одинцовка, Игрень и др. Среди них была и моя тетя Шура (она жила и учительствовала в поселке Игрень). Она, вместе с моей сестрой Шурой 1933 г.р. катили тачку, на которой были вещи и сидел мой двоюродный брат Женя, 1939 года рождения. На предложение тети Лены поселиться с нами в подвале, она ответила: “Ви як хочете, сидіть собі, а я з дітьми піду, куди кажуть, бо не хочу щоб нас повбивали”. Они сделали правильно и не перенесли тех страданий, что пришлось перенести нам. Фронт прошел стороной, их никто не тронул, они спокойно вернулись в свой дом в Игрени. Сколько дней мы просидели в подвале, так бы и осталось для меня неизвестным, если бы не справка СБУ 5 июня 1990 года, в которой указан точный срок нашего угона в Германию — 25 сентября 1943 года.
Я глубоко уважаю тот тяжелый и опасный труд, что был проделан людьми из органов безопасности в те далекие военные годы, чтобы сохранить для истории все, что творилось на временно оккупированной территории нашей страны.
Потом наступило самое страшное. Нас с котомками и корзиной, в которых были остатки вещей, что остались у нас не променянными на продукты, рано на заре со страшными криками и гиканьем калмыки (это были немецкие наемники, бывшие граждане СССР) выгнали из подвала и построили в шеренги. Там уже были люди с тачками и велосипедами, обвешанные котомками. Было очень много людей с маленькими детьми. Калмыки разъезжали на низкорослых лошадях, с пистолетами и резиновыми плетками-нагайками. Нас погнали в направлении села Краснополье. Вдоль дороги на столбах висели трупы повешенных. Кто это был, когда их повесили? Тетя завязала мне глаза и вела за руку. Но я видела их ноги. Может это был плод моей раненой психики, но когда я вспоминаю эти времена, то вижу эти ноги, как наяву. Наша бесконечная колонна, находящаяся под конвоем калмыков на лошадях, патрулировалась немецкими мотоциклистами в форме СС. При малейшей попытке уйти куда либо в сторону калмыки стегали людей нагайками почти до смерти, а СС-овцы их достреливали. Брела эта колонна через уже пустые села в направлении юга Украины, вначале в направлении села Широкое.
Потом было все одинаково, монотонно. Беспомощные люди, обессиленные ежедневным маршем, тянулись под конвоем неизвестно куда. Стало холодно, моросил дождь, села по дороге были уже пустые. Обогреться было негде. Спали, где придется, кучами, чтобы было теплее. А утром опять, под крики и гиканье калмыков вся эта масса людей начинала двигаться в никуда. Еду подбирали по дороге. Это были полудохлые бараны, которых немцы с Кавказа угоняли в Германию. Они были очень жирные. Говорили, что вес курдюков доходил до 7 — 8 килограммов. Ели это мясо и жир без соли и хлеба. На всю жизнь мне опротивел запах баранины. Еще калмыки иногда добивали лошадей, падавших от непосильной ноши, которую везли немцам с Украины. Иногда нас обгоняли немецкие грузовики, загруженные чем-то и покрытые зеленым брезентом. Потом начались морозы и снегопады. Мои ноги были ярко красного цвета. Тетя спасала меня только овечьим жиром, натирала им и обматывала мои бедные ноги тряпками. Болели неимоверно зубы. Так этот поход на всю жизнь оставил мне обмороженные ноги и больные десна без зубов.
После нескольких месяцев марша, под строжайшим конвоем, нас пригнали в город Бендеры, на переправу через Днестр. Сколько там было всевозможного люда: гражданских, и военных, и итальянцев-военнопленных! Все смешались вместе. Какие-то возы, овцы, машины, военная техника. Калмыки орали, свистели, пытались как-то отделить колонну от остальных, кто там был. Потом мы оказались под бомбами. Наши бомбили переправу. Бомбы падали всюду, было много раненых. Берег превратился в мокрое, грязное месиво из земли, снега, крови. Валялись убитые люди, куски тел.
Не помню, как нас переправили, и как мы оказались в вагонах-телятниках на другой стороне Днестра. И опять начались новые страдания. Опять под конвоем, абсолютно голодные, полностью измотанные, в мокрой одежде (если это еще можно было называть одеждой). Через какое-то время эшелон остановился, и местные жители, видимо венгры, бросали нам хлеб в фольге через зарешеченные окна в вагоне. Калмыков уже в эшелоне не было. Их видимо вернули назад продолжать угон населения в Германию. В Венгрии стало теплее. Шел уже 1944 год. Из зарешеченных окон было видно, когда вагоны поезда поворачивали по высокой гребле, видели Будапештский вокзал. Даже в таком тяжелом состоянии мы восхищались его красотой. В этот день было тепло, уже пришла весна.
На следующей остановке, было это в Австрии или Чехии, не знаю, нам дали из полевой кухни до отвала поесть густого вкусного супа с крупой. Потом, через некоторое время в пути, нас высадили из вагонов и погнали в концлагерь.
Территория была обнесена колючей проволокой, бегали собаки, на вышках стояла охрана. На входе был шлагбаум. Нас завели в длинный барак и приказали раздеваться догола и бегом в баню. После бани каждый искал свою одежду. Дали всем деревянные башмаки и наштамповали нашими пальцами отпечатки на каких-то бумажках. На работу не гоняли, все слонялись по территории. Кормили раз в день супом — бурдой, а утром и вечером — “кофе”. Хлеба давали очень мало.
Потом опять загнали в вагоны и опять повезли. В один из дней на стоянке, опять не знаю, какой это был город, может Вена, может Берлин, началась неимоверная бомбежка. Мы сидели в закрытых вагонах, а вокруг все горело, рвались бомбы, гремела канонада зениток. По моим предположениям это был Берлин. Немцы — охранники разбежались. А мы, в закрытых наглухо вагонах, ждали неминуемой смерти. Под утро наш эшелон перетянули куда-то, но нам было уже все равно. Опять повторилась бомбежка. Но мы всеже остались живы, нас не разбомбили. После этого нас ганяли на расчистку завалов церкви от бомбежки. Это было недалеко от какого-то из вокзалов Берлина.
Не могу вспомнить, был ли на нашем пути еще такой же лагерь, как тот, первый, в лесу? Но впереди меня ждало что-то страшное: детям в маленькой коморке делали какое-то впрыскивание жидкости под левую руку. спасла команда: “Полякам в вагоны на погрузку!”. Мой дядя — поляк, схватил нас и мы покинули этот концлагерь. Примерно через сутки нас привезли в другой концлагерь. Я думаю, что это был Штутгофф, хотя оттуда я получила ответ, что в частично сохранившихся списках лиц фамилия Викторовская не числится. Так я до сих пор и не смогла подтвердить своего пребывания ни в одном из концлагерей, хотя побывала по крайней мере в четырех.
Был, видимо, конец мая 1944 года. Нас привезли туда утром. Вокруг лагеря был ров, на входе, у железных ворот, немец с бляхой на груди. Между рвом и входом большое расстояние. Немец кричит: “Не гадать” с польским акцентом. Потом барак, команда снять одежду и залезть в чан с белой, пекущей жижей. Это была дезинфекция. Одежду не трогали. Людей с детьми и стариков отправили в барак за территорией лагеря. За территорией, но тоже за колючей проволокой и охраной. Оттуда гоняли всех на работы — в основном, на железнодорожный вокзал и на вырубку леса. Территория вокруг лагеря была покрыта срубленными деревьями, всюду торчали пни.
Я была очень больна. Болело плечо, рука и спина, меня сильно лихорадило. Состояние было критическим. Из барака я не выходила. Не помню кто, но иногда какие-то люди приносили мне еду, говорили, что иностранцам присылали посылки через Красный Крест (говорили, что кроме поляков там были бельгийцы и французы). Я выглядела очень плохо. Синего цвета рука, отекшее лицо и не прекращающийся кашель. На двухэтажных нарах спали на первом этаже втроем. Примерно через месяц в лагерь стали прибывать большие партии евреев. Немцы кричали на меня и каких то стариков, что если из нашего барака не будем выходить, то пойдем в крематорий.
Страшно не было. Все было совсем безразлично.
Мертвых выбрасывали через окно и складывали на тележку. Говорили, что их принимает комиссия. Потом, когда стало уже совсем тепло, нас всех из этого барака перевезли в какой то маленький концлагерь в другой город. Тоже с вышками и собаками, очень строгого режима. Там жили люди разных национальностей. Было много пленных. Их возили в закрытых машинах на работу на подземный бензиновый завод. Видимо, наша партия со стариками и детьми на работу в подземном заводе не подходила, и вскоре всех отправили в город Штетин, в трудовой лагерь № 7 (согласно справке СБУ). Лагерь как лагерь. К тому времени никто уже ничему не удивлялся. Кормили очень плохо. На работу гоняли колонной, на черепичную фабрику, на которой уже никто ничего не производил. Фабрика была около горы, из которой добывалась глина для производства черепицы. А теперь быстрыми темпами мы рыли тоннель для спасения жителей города, которые съезжались туда, что бы спрятаться от бомбежек американских самолетов. Это был уже июль — август 1944 года.
Начались ежедневные авианалеты американцев, и уже от страха никто не думал даже о пище. Каждый день перед полуночью выли сирены. Радио оповещало: “Achtung! Achtung! Dieluft lager meldung!” о том, что 2000 тяжелых бомбардировщиков направляется на Штетин, Брауншвайг, Берлин и другие города восточной Германии. Перед тем, как приступить к бомбардировке, на город сбрасывали тысячи световых гирлянд, освещение от которых было таким, что можно было собирать иголки, ночью было светлее, чем днем.
Горожане потоком устремлялись и еле успевали в укрытия, которые мы рыли день и ночь. Работы по рытью и обустройству тоннелей шли круглосуточно. Невозможно вспомнить, когда, где и как мы отдыхали и ночевали. На эти работы была брошена масса людей, в том числе и гражданские немцы. Особенно тяжело было заключенным — бывшим итальянским солдатам, которые бросили советско-германский фронт. Я своими глазами видела, как они из человеческих экскрементов вылавливали зерна непереваренного гороха и поедали их. Во время таких бомбежек на город сбрасывали тысячи бомб, которые назывались люфт-минами. Они уничтожали в большом радиусе все — и дома, и растительность. После взрыва все собиралось в большой ком, оставалось побритое поле. Эти налеты практически уничтожили город.
Вскоре разбомбили и наш лагерь. Мы остались, в чем стояли. После этого все покотом спали на полу в сохранившихся полуразрушенных зданиях. Некоторых поселяли в стоящие неподалеку одноэтажные плохо уцелевшие сооружения.
В период дождей склоны гор покрывались грибами, шампиньонами, их было много. Жить стало легче. Хозяин фабрики был человек добрый. Он был без ноги, потерял ее в России, в первую мировую войну. Оттуда привез себе русскую жену, фрау Лотте (видимо Лиду), но она упорно строила из себя немку и никогда и словом не отозвалась по-русски. Видя мое тяжелое состояние здоровья, меня и еще одну девочку, Галю, хозяин брал к себе убирать во дворе и иногда отпускал в порт. Там мы себе набирали в ведро отходов из сельди, которые немцы не ели. И это помогло нам выжить.
Наконец в марте 1945 года советские войска подошли к Штетину. Уже все немцы повторяли “Гитлер капут”. Но, увы! Нас снова посадили в телятники, и очень скоро мы оказались в городе Нойе-Бранденбург, откуда попали в хозяйство, где очищали поле от гравийно-галечной смеси и валунов. Работа была непосильная, особенно для меня. Меня все еще мучила не проходящая боль руки, плеча и левой лопатки. Через полтора месяца мы, наконец, увидели наших советских солдат, воинов-освободителей. Мы все собрались вместе и безумно радовались, что живы и поедем домой.
Один из солдат, глядя на меня, сказал: “Во что эти сволочи превратили эту хорошенькую девочку, нашу, советскую девочку”. Я стояла перед ними в деревяках и пошитой тетей Леной вручную из солдатского одеяла разлетайке серо-грязного цвета. Приказали хозяину одеть девочку. Так как жена бауэра была дамой крупных габаритов, и мне ничего не подошло из ее вещей, хозяин принес что-то более сносное из одежды от соседей.
И так в этом одеянии я и приехала в Польшу, в Варшавское воеводство, в город Гродзиск-Мазовецкий, куда мой дядя-поляк сразу же через военкомат г. Нойе-Бранденбурга получил разрешение выехать вместе с семьей на его родину в Польшу. До войны Польша и так была очень бедной страной, а во время войны она обнищала совсем. Родственники нас приняли очень радушно. Семья моего дяди была огромной, так как у деда родилось 18 детей, а выжило 11. Мне в это время было 14 лет. Меня сразу же определили в Варшаву в русскую школу, где учились дети дипломатов. Там попробовали учить сразу все классы в одном — от 3-го до 10-го, и, естественно, такая школа распалась. Я перешла в гимназиум и лицеум им. Юлиуша Словацкого в семестральную школу, где в один год мы заканчивали два класса. Я быстро освоила польский язык, вероятно, потому, что происхожу из очень древнего польского рода, который поселился на Украине в далекие давние времена.
В далекое послевоенное время в Польше было очень трудно. Повсеместная безработица. Электрички переполнены. Всюду груды мусора, развалины домов, разбиты дороги. Народ ненавидел всех — и немцев, и нас. Когда я впервые после войны одела красный пионерский галстук, меня прямо на ул. Маршалковской (центральной улице Варшавы) оплевала полька, одетая в рванье, и при этом кричала: “Коммунисты-фашисты! Вон отсюда, а то убью!” Мы старались и там как-то выжить. Тетя Лена завела несколько курей и гусей. Дяде достался по наследству кусок земли, мы его обрабатывали. Дядя работал на заводе “Урсус”. Платили ему мало. Однако, я училась. Ездила в Варшаву 30 км ежедневно электричкой (холодной, набитой разным людом, что ездил в Варшаву в надежде что-нибудь заработать).
Мы с тетей Леной мечтали вернуться в Советский Союз. Написали множество писем, разыскивая мою маму. И вот, в один счастливый день, почтальон принес письмо. Тетя Лена его открыла и зарыдала: “Наночка! Ты знаешь, от кого письмо? Это от твоей мамы!” В это время я уже окончила гимназию и 1-й класс лицея. Остался один семестр, и у меня среднее образование.
Я сразу же поехала с этим письмом в консульство СССР, а затем вскоре была направлена в фильтрационный лагерь вблизи Вроцлава (Бреслау). А затем — Родина. Пересадка в г. Брест. Это был август 1948 года. Моя мама встретила меня на станции Игрень Днепропетровской области, где ей разрешили жить после Сиблага. Тогда у нее еще не было реабилитации. Убогая хатка и маленький огородик. Пустота и нищета. Зато я, наконец, на своей Родине, со своей дорогой многострадальной мамой.
Сразу после возвращения я была принята в 12-ю среднюю школу Сталинской ЖД г. Днепропетровса, которую успешно окончила и осуществила свою мечту: стала студенткой Днепропетровского инженерно-строительного института. Окончила его с отличием, став инженером-строителем и получив рекомендацию в аспирантуру. Я всегда буду благодарна светлой памяти директору моего института Моисею Юрьевичу Карчемскому, который, невзирая на страшные «родимые пятна» моей биографии, оставленные сталинскими репрессиями 1937 года, моим пребыванием в гитлеровской неволе, несмотря на мое трехлетнее проживание после войны заграницей – в Польше, зачислил меня на первый курс своего института. Мало того, я нередко бывала у него в доме по приглашению его дочери Майи, которая училась вместе со мной на одном курсе. А когда меня принимали в комсомол на общеинститутском комсомольском собрании, в ответ на выкрик студента третьего курса Л. Шейнина: «Пусть скажет, где ее родители!», он сказал : «Ты что Шейнин, не знаешь слов товарища Сталина – дети за родителей не отвечают!».
Стремясь быстрее осуществить свою мечту — строить дома и дороги, поехала по назначению в Донецкий край, г. Рубежное. Там была единственным инженером-строителем. Строили жилье для людей, которые приезжали на Рубежанский химкомбинат. Трудно было очень: пески — не успеешь отрыть котлованы, а они уже засыпались песками вновь. Затем я была переведена прорабом в г. Ворошиловград на строительство чугунолитейного цеха на заводе ОР и затем “Артема”. Много было очень трудного, но и много интересного.
Меня избрали делегатом съезда работников промышленного строительства и промстройматериалов. Там я была избрана членом ЦК профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов. Выполняла это поручение четыре года.
После трех лет работы непосредственно на стройплощадке поступила в аспирантуру при Киевском инженерно-строительном институте. Защитила кандидатскую диссертацию по теме “Высокопрочные бетоны для подземного строительства Киевского метрополитена”. Эта работа была внедрена при сооружении первого в мире станционного тоннеля из сборного железобетона станции “Политехнический институт” Киевского метрополитена. После нашего опыта все станционные тонели стали сооружаться из железобетонных колец большого диаметра. С тех пор прошло более сорока лет.
Более 30 лет я была руководителем лаборатории и отдела комплексного благоустройства городов в институте городского хозяйства НИКТИ ГХ МЖКХ УССР. Являюсь автором ряда технологий изготовления сборных изделий для строительства дорог и благоустройства городов. Под моим руководством исследованы с целью использования их в городском дорожном строительстве почти все отходы предприятий горнорудной и перерабатывающей промышленности. За свою очень интересную и далеко не легкую работу имею ряд ведомственных наград и поощрений. А за разработку и внедрение сборных элементов а благоустройство городов награждена правительством СССР медалью “За трудовую доблесть”.
После выхода на пенсию около 10 лет возглавляла Научно-технический центр при НТО коммунального хозяйства Украины. Имею в общей сложности более 150 печатных научных работ. Стараюсь и теперь печататься в периодических изданиях. Являюсь автором Государственных стандартов.
Несмотря на свой уже давно почтенный возраст, занимаюсь общественно полезным трудом в социальной сфере: являюсь председателем женского центра “Надія”, а также являюсь членом организации жертв политических репрессий и Киевского “Мемориала”. Избрана членом бюро Украинского Союза бывших узников-жертв нацизма. Неоднократно моя деятельность отмечалась “Подяками” и “Почетными грамотами” от Киевской городской администрации Президентом Украины награждена орденами “За заслуги” III степени и “Княгини Ольги” ІІІ степени.
У меня прекрасная семья, мой муж по профессии — специалист в области теоретической механики, занимался научной работой, опубликовал немало научных работ, работал в институтах АН УССР и в научно — исследовательских лабораториях, преподавал в высших и средних учебных заведениях
У нас две дочери:
Людмила – журналист, член Национального Союза журналистов Украины, была ведущей программы на Украинском радио, работала в прессе. В настоящее время — аспирант Европейского Коллегиума Польских и Украинских Университетов.
Елена – архитектор — дизайнер. Закончила аспирантуру при НИИ Градостроительства. В настоящее время занимается дизайном интерьеров.
Мой зять Андрей — специалист в области фото, кино — и теле- съёмки, профессионально работает в области компьютерного проектирования: является разработчиком компьютерного дизайна интерьеров и полиграфических изданий.
Мой внук Саша: ему 13 лет, учится в средней школе и в художественной студии при Доме художников Украины. Мы хотим, чтобы он вырос крепким, умным и добрым и полезным нашей стране человеком.
С моим участием установлены и расширились международные связи УСУЖН с немецкими общественными организациями «Контакты – Коntakte», «Русско – немецкий обмен», «Акция искупления – служение делу мира», «Берлинское подземелье – «Бункер», а также с религиозными организациями Евангелической церкви и др. Установлены тесные контакты и заключены договора о сотрудничестве с «Союзом поляков, пострадавших от Третьего рейха» и с Музеем бывшего концлагеря «Майданек». Эти международные связи позволяют нашему Союзу расширять свою деятельность в социальной и гуманитарной сферах, а также проводить работу по воспитанию молодежи в духе взаимопонимания и мира между народами, противодействия тоталитаризму и милитаризму.