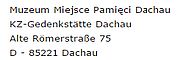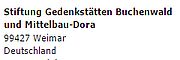Титова Елена Александровна
Тернопольский суд в 1994 году вынес решение о моем пребывании в годы ВОВ в Австрии под городом Линц с 1942 по 1945 г.г.
Австрия в декабре 2004 года подтвердила архивным документам факт угона и пребывания нашей семьи на принудительных работах в Эфердинге (близ города Линц). Это результат поиска архивного отдела УФВП.
В суде меня спросили : « Ну что вы можете, пятилетний ребенок, помнить о том времени?»
Мой отец – Рябов Александр Михайлович, 1881 года рождения – окончил Санкт-Петербургский Университет( Физмат) и Петроградский горный институт, работал на разных должностях горной промышленности Донбасса, преподавал в технических учебных заведениях. В начале войны он был переведен из Госгортехнадзора Луганска в город Красный Луч и имел отношение к выведению из эксплуатации местной шахты перед захватом города немцами. Выполнив задание, пытался уйти на восток к своим, но не удалось. Домой вернулся тяжело больным с опухшими ногами, умер 08.08.1942 года.
Мама – Рябова Мария Лукьяновна – окончила гимназию, и до замужества работала учительницей начальных классов.
Родители представляли счастливый супружеский союз высокого мужского интеллекта и очаровательной женской красоты. По праздникам любили собираться – близкие, друзья и мама по их просьбе пела романсы «Белая акация», «Где вы теперь, кто вам целует пальцы», «Баллада о гусаре и др, аккомпанируя себе на фортепиано. Отец любил вальс Гапона «Оборванные струны».
Нас детей — у родителей было трое: Ксения, Татьяна и я – Елена. (1925,1931, 1937 годов рождения)
Слово «война» я впервые услышала, сидя на коленях у мамы. Я просила с плачем купить булочку «жаворонок» с глазками-изюминками. Мама, утешая, сказала: «Булочек нет. Война идет».
Помню, сижу у забора на улице, сжалась в комочек. Соседский петух – задира, единственный на всю улицу, угрожающе хлопает крылом, бегает передо мной, отрезав путь к калитке. Его хозяйка – одинокая старушка Васильевна – давно хочет его поймать, но нет у нее сил и ловкости.
Подошел незнакомец, тихо спросил: «Папа дома?». Я ответила тоже тихо: «Папа умер». Он провел меня к калитке, погладил по голове и пошел, я смотрела ему вслед и тихо плакала. Папу похоронили в простыне. После войны могилы не нашли, кресты пошли на дрова.
Живем мы во втором доме от угла у базарной площади. Мама идет на базар продавать или менять вещи на продукты, меня не берет. В небе появляется самолет, немецкий, расстреливает людей и скрывается. Прибегает мама напуганная. Еды не принесла, рассказывает об убитых, раненых. Позолоченную ложку продать не смогла, женщина ей сказала, что ложка медная почернеет, что деревянная лучше.
Просыпаюсь, в доме никого. Выхожу на улицу. Нигде никого не видно. Мне страшно от чувства, что я одна в целом мире. У базарной площади установлены деревянные щиты (как снегозащитные). Под щитами сидят опухшие от голода люди, они ничего не просят, они умирают, я боюсь подойти к ним. Вдруг низко в небе появляется самолет, сбрасывает листовки. Листовки падают прямо на меня, я их подбираю. Когда, наконец, пришли мама с сестрами, то прочитали « Дамочки, не копайте ямочки — наши таночки не поедут в ваши ямочки». Немцы ямочками называли противотанковые рвы. Эти противотанковые рвы полуголодные женщины и дети копали за городом целыми днями.
У базарной площади брали начало четыре улицы. Помню, ведет меня мама за руку по базару. Вдруг из белых облаков появляется немецкий самолет. Начинается паника. Все побежали. Толпа оторвала меня от мамы и сбросила на дно окопа. Над моей головой люди перепрыгивают ров. Я ослепла: землей засорило глаза. Когда прекратилась стрельба, и самолет скрылся, стали слышны крики, стоны, плач. Кричу и я. Когда меня вытащили изо рва, промыли глаза, радости не было конца. Мы живы! Больше я на базар не прошусь. Боюсь. Там убивают.
Впервые вижу наш низколетящий самолет с черным шлейфом дыма. Казалось, вот-вот и упадет на нашей улице. Но он в конце улицы перелетел балку и упал в поле. Дети побежали к месту падения, Таня за ними, ну и я за ней. Я безнадежно отстала. Таня потом рассказала, что взрослые оцепили место падения, детей разогнали, и они издалека наблюдали, как самолет догорал. Жив ли, погиб ли летчик, им не сказали. Второй раз такой же самолет еле перелетел балку, и мы увидели черный фонтан земли.
Вначале мама продавала вещи на рынке. Потом ходила по селам меняла на продукты. Настало время, когда и менять было нечего. Теперь. Чтобы выжить, спасти нас – детей, она стала гадать на картах. С ней всегда ходила Таня. В каждой семье кто-то был на фронте. Родные не хотели верить в их гибель, даже когда приходила похоронка. Мама рассказывала о людской боли, раскладывая мешочки с кукурузой, пшеном, пшеницей. Варить было нельзя: на дымок стреляли и свои, и немцы. Такой был период. И тогда мама замачивала зерно и мы ели его совсем сырым.
Таня вспоминала, как в пургу они возвращались домой на санях, и везли то, что удалось раздобыть. Вечерело. До дому было еще далеко. В пути их уставших догнал мужчина, взялся везти саночки, даже Таню усадил на них. По дороге расспрашивал о жизни людей в городе, мама всю дорогу боялась, что вдруг он отнимет продукты. Ничего он не отнял, помог довезти до города. Подбодрил их и пошел дальше. Таня хвасталась, как незнакомец вез ее на санях, и мама с благодарностью вспоминала его. Задавая себе вопрос: почему он не на фронте? Куда он шел?
Соседка Васильевна принесла стакан молока мне — маленькой и больной. У нее коза, кормить нечем. Она вздыхает, жалуется на здоровье, на то, что вестей нет от ее близких, просит маму погадать, утешить ее.
Мама я Таней ушли в село просить у людей хоть какой-нибудь еды. Нам с Ксеней стало страшно ночевать одним, и мы попросились к соседке. Начало светать и мы проснулись от громкого стука в двери. Соседка шепнула: прячьтесь. Вошли немецкие солдаты, осмотрели все углы в доме, нас, о чем-то поговорили между собой, что-то выяснили у хозяйки, она ничего не поняла и была рада, что не выломали двери. Немцы ушли, а мы через щели в ставнях наблюдали, и слушали, что происходит на улице. Так началась оккупация города. С тревогой ждали маму и Таню. Оккупировав город, фашисты деловито приступили к наведению своего порядка. Все нажитое родителями – мебель, посуду, ковры, фортепиано, вывезли для обустройства кафешантана, а нас согласно предварительно выданной повестке, выгнали на улицу и вместе с другими жителями погнали на вокзал, где и затолкали в товарные вагоны.
Бархатное платье ассоциировало у меня с праздником. Помню, мама одевает меня в это платье с белым кружевным воротником, но почему-то не завязывает бант на голове. Я напоминаю, в ответ слышу: «Война, бант не нужен» и вот мы с узлами в глухо взбудораженной толпе. Мама подсаживает меня в вагон, просит занять место в углу. Я, в плачь. Не хочу в темный угол вагона. Пока мама помогала Тане, угол уже был занят. Нам досталось место в центре вагона. Мама поругивала меня, что не заняла место в углу. Она требовала от нас послушания во всем, никуда от нее ни на шаг, держаться за юбку. Война! Можем потеряться и погибнуть. Вот Ксеня уже потерялась, едет где-то сама. Мы обещали слушаться.
Ночью в пути поднялся крик, нас топтали ногами, мы кричали от боли. Оказалось, что завалились нары, давили тех, кто лежал на полу вагона. Люди с не завалившихся нар, топтали нас. Людям пришлось стоять до утра, пока нары не уложили на пол. Люди были в ссадинах, в руках в занозы, оттого что удерживали нары из неотесанных досок. Теперь мама благодарила бога, что мы не заняли угол вагона под нарами.
На какой-то станции немец с автоматом и овчаркой приоткрыл двери вагона, выходить запрещал. Рядом стоял состав и через решетки окна на меня смотрели черные, небритые лица наших военнопленных. Они просили воды, табака, хлеба. Мама в чайнике берегла воду для нас, но и подать не было возможности, до окна не дотянуться. Женщины бросали кто что: картофель, кочаны кукурузы, но чаще это падало под колеса вагона. Все шумно переживали, немец закрыл двери вагона и мы тихо покатились. Всем стало очень грустно. Помню, как я подумала: у них есть окошко, а у нас только щелочки.
Пока меня везли в «Цивилизованную Европу» моими игрушками стали туфельки с пуговичками. Они были кроваткой и коляской, которых я баюкала как «куклу». Свернутый носовой платок – вагончикам, лодкой, самолетом, кошкой, лягушкой. Я озвучивала : мяукала, квакала. Мама не любила озвучивания самолета, требовала его немедленной «посадки».
Ночью проснулась от отчаянного крика мамы. Она крепко прижимала меня к груди. Кто-то на полном ходу поезда наполовину открыл снаружи дверь, и наша одежда и узлы из-под голов полетели в темноту. Всем хотелось верить, что это какой то смельчак, ошибся составом. Это мог быть военнопленный, который ошибся вагоном.
Днем нас бомбили. Люди кричали от страха. Состав остановился. Открыли двери и люди побежали в поле. Пока мама бежала со мной на руках, и тянула Таню за руку, этот ужас кончился. Самолет не возвращался, немцы овчарками загоняли нас в вагоны. Слышала стрельбу.
В «цивилизованную Европу» меня привезли без банта, белого воротничка. В одной туфельке (другая выпала в ту ночь из вагона) и тяжело больную от употребления скудных и испорченных продуктов. Ведь только же за одни сутки кукуруза, картофель у всех прокисли.
Когда сегодня пишу эти воспоминания, что-то во мне сопротивляется называть Европу без кавычек цивилизованной, правовой. Наверное, потому что меня увезли в военную Европу…
Мы оказались в Австрии в лагере в близи г. Линц. Здесь нас разделили догола, остригли на лысо, а одежду, связанную в узлы, отправили на термообработку. Мы задыхались от дуста, которым была пропитана наша одежда после термообработки и обжигала мое тело. Персонал лагеря под команду « шнель, шнель», гнал людей в непонятных для них направлениях. Дошла очередь и до «фото на память». Усадили меня, на шею повесили табличку с номером, это фото берегла долго, прятала от людей и мамы в изгибе переплета учебника по конституции. А когда сдавала старые учебники в обмен на новые, забыла о фото, жаль. Позднее спрашивала у мамы, как это фото оказалось у нас? Она объяснила так: « ты не капризничала, этим понравилась фотографу. И он подарил».
Мы спали в лагере на 3-х ярусных в нарах. Все чаще оставалась на верхней полке, откуда самостоятельно мне было не слезть, ни залезть. На ногах ниже колен открылись раны – туберкулезы костей. Каждый вечер мама отрывала чулки от ран, выдавливала гной до тех пор, пока не появлялась кровь. Раны не заживали и к вечеру следующего дня снова наполнялись гноем. Раны расширялись, углублялись, и я уже целые дни проводила на нарах.
Помню: лежу на подводе среди узелков, рядом мама и немецкий солдат за кучера. За подводой идут усталые люди, среди них мама. Дорога проходит по сельской местности. Бауэры выходят на дорогу, выбирают себе работников. Всех разобрали, осталась хрупкая мать с двумя детьми. Вдобавок одно совсем маленькое и больное. Бауэр отказался нас брать. Солдат дал команду снять меня с подводы, развернул коня и уехал. Бауэр ушел, мы остались у дороги. Мы постояли. Потом сели и легли. Подошла овчарка, обнюхала , разлеглась рядом. Мы сжались в комок, мама обняла нас и тихо запела колыбельную песню. Бауэр появился с фонарем, позвал нас: «ком, ком». Завел нас в какое-то помещение, где стояла деревянная кровать. Я заснула под теплой периной под незнакомые звуки и запахи.
Хозяин поселил нас в сером помещении (сбруйной) с цементным полом. На стенах крюки, два окна, на одном металлическая решетка без стекла. Это помещение не отапливалось и зимой, мы открывали двери в конюшню, чтобы как-то согреться. Так под перезвон цепей и запах мочи мы прожили до освобождения – дня Победы.
До какой же степени мы были унижены в глазах немцев, что не достойны были проживать в жилой части его дома. А ведь в конце войны, когда началась ежедневная бомбежка городов, хозяин размещал беженцев из Линца в комнаты, которые пустовали все годы нашего пребывания, у этого бауэра. Наши обязанности были расписаны с первого дня. Мама должна была ухаживать за коровами и свиньями, Таня – за телятами. А мне доверили кролей, гусей и кур. С весны до осени мы работали в поле, зимой – в лесу по заготовке строевого леса и дров, вывозке навоза. Рабочий день от рассвета дотемна, в воскресные дни – в границах двора по уходу за животными.
Таню я запомнила такой: худющими ручками тянет перед собой ведро с пойлом для телят. Правая рука оголена и мокрая, это оттого, что перемешивает какую-то мучную добавку в ведре с молочным перегоном. Часто ей приходилось плакать, обидно мне было за нее. Я видела, как она старается, но телята были сильнее ее и мордами выплескивали пойло из ведра, а иногда и опрокидывали ведро, Тогда уже и я ревела вместе с ней.
Завтрак и ужин состоял из «кофе», или молока (перегона), кусочка хлеба, к кофе полагалась таблетка сахарина. Обед — брюквенный суп, отварной картофель, политый подливой с кусочками отварного сала, стакан яблочного мусса. Во время еды хозяин обычно сидит за столом и, пока мы едим, подводит итоги работы, дает новые задания, делает замечания. Не помню случая, чтобы к столу подавали масло, творог, яйца, птицу. Только на пасху и новый год были угощенья — печенье, яйца. Когда хозяйка усаживала меня к бочонку сбивать масло, я получала кружку сколотины.
Овчарка, встретившая нас в первый день, стала моим доктором Айболитом. Пес ходил за мной, обнюхивал мои больные ноги. Казалось, он хочет укусить меня за раны. Как-то я забилась в уголок и стала потихоньку отдирать чулки от ран. Айболит лег на меня и стал лизать раны. Время шло, я осмелела и уже сама звала Айболита. Когда потеплело, я сняла чулки, и теперь Айболит спокойно лизал мои ноги. И вот настал день, когда у меня на ранах появилась тонкая пленочка. Как я берегла ее. Боялась упасть, за что-то зацепиться. Шрамы остались на всю жизнь, всегда старалась, чтобы они были прикрыты платьем. Судьба моего доктора Айболита оказалась трагической. После долгих скандалов его пристрелили за то, что он травила зайцев на землях у соседних бауэров. Хозяйский сын Фриц дружил со своим ровесником 13-ти летним сыном лавочника. Этот мальчишка стал нашим мучителем. Он срывал косынки с моей и Таниной головы, задирал платья прутом, дразнил незаметно для окружающих, грозил, что побьет, если пожалуемся. Он и Фрица приглашал поглумиться над нами, но Фриц не следовал ему, но и не пресекал. Тогда он стал куражиться над Фрицем. Из-за него Фриц стал ломать саночки, чтобы я на них не каталась, когда он в школе. Хозяйка иногда разрешала мне прокатиться, а Фриц после этого объявляет, что я санки поломала, Не хотел, чтоб из-за меня над ним издевались.
15-ти летний Ваня попал в хозяйство еще до нас. Он ухаживал за лошадьми. Выполнял тяжелые погрузочно-разгрузочные работы. Мы любили его. Ночами он бегал в соседние хозяйства. Общался с такими же, как мы работниками, мечтавшими об окончании войны и возвращении на Родину. Иногда Ваня приносил новости о ходе войны, о немецких успехах, о наших победах. Наш хозяин слушал военные вести тайно, но никогда не рассказывал нам.
Как-то хозяин подарил ему рубашку, а хозяйка потребовала вернуть. Ваня снял, подал ей и со слезами на глазах от обиды толкнул ее в спину. Мама молила простить Ивану, но ее мольба не помогла. Ваню мы больше не видели. Ходили слухи, что его отправили в концлагерь. У Вани даже постели не было, спал, где придется: на сеновале, в конюшне на соломенной подстилке.
Вспоминаю, как однажды городские немки пришли в сезон уборки урожая. Как, они подошли ко мне, угостили леденцами – таблетками и спросили, где хозяин. Я сказала, и они пошли к нему. Хозяйка увидела меня из окна, позвала, расспросила, о чем был разговор, и влепила мне звонкую пощечину. Плача, не понимая, за что меня ударили, я залезла на сеновал, наплакалась и уснула. А тут Ваня полез за сеном, не заметив меня, поранил вилами пальцы руки. Кричу от боли, Ваня отшлепал меня, чтобы не спала в сене, ведь мог убить. Ищу маму, чтобы пожалела и перевязала руку. Нашла ее, рассказываю о своем горе. И тут моя мамочка-левша шлепает меня по щеке. Я легла на землю и только вздрагиваю. Мама не понимает меня, я говорила на немецком языке. Я понимала ее, а сама говорить на родном языке уже не могла. Бантиком- тряпочкой с моей головы она перевязала мне пальцы, обняла, успокоила, поцеловала и пошла « проводить расследование». Оказалось, что немки пришли за расчетом, хозяин по каким-то причинам не хотел или не мог им заплатить, поэтому, хозяйка сказала, что хозяина нет в хозяйстве — уехал. Ей не поверили. Мама просила меня говорить всем : «Никс ферштейн»- не понимаю.
Новогодний вечер, я на руках у мамы, в руке у меня печенье, во рту леденец, в кармане орехи, на голове «бант». И вдруг распахиваются двери, врываются черти в черном трико, с рогами и хвостами. Они сорвали с меня «бант», отняли печенье, побили хвостом. Свет погас, черти щипали, царапали меня. Я кричала. Наконец, хлопнула дверь, стало тихо. Зажгли свет. На полу лежит избитый Ваня. Хозяин говорит, что это шутка, австрийские обычаи. Мама ответила: «Обычаи ваши, а избили нас». Бант черти повесили на дерево.
Хозяин подарил мне ботинки на деревянной подошве с металлическим ободком, и изготовленные специально для меня, по моей ноге. Надеваю ботинки. Небо синее, солнце яркое, снег в блестках, я тепло обута, а санки поломаны.
Ночами мы мечтали о разном. Сейчас о том, как вернемся после окончания войны домой, где нас ждут санки такие, на которых могут три человека сразу катиться с горки. И горки у нас круче.
Хозяйка гадает: снимает с пальца обручальное кольцо, вешает на ниточку и держит над фотографией. Если кольцо раскачивается как маятник- человек жив, если неподвижно – умер. Гадала всегда на трех фотографиях. Как-то прибыл на побывку один из них. Высокий, стройный, в фуражке с высокой кокардой, сапоги блестят, в форме. Гулял по усадьбе, по отношению к нам был высокомерным. Как-то я оказалась на его пути. Стоит, молчит, раскачивается с пятки на носок, руки сзади. Я, как мышь, проскочила, проскользнула мимо. Я чувствовала в нем врага – форма пугала.
Пришла женщина и с согласия хозяйки забрала меня с собой. Жила она одна в уютном домике. Она помыла меня, переодела и мы разлеглись на кровати. Постель свежая, под кроватью ночная «ваза». Окна распахнуты, пахнет фиалками. Фиалки в саду, фиалки вазочке на трюмо. Фрау Фиалка (как я ее называла) угощала разными сладостями, читала сказки, играла со мной в куклы, разрешала примерять перед зеркалом ее шляпки с украшениями – букетиками из фиалок. На третий день радость во мне погасла, а что если мама с Таней уедут без меня на Родину, и я потеряюсь, как Ксеня. Плачу. Хочу назад к маме. Утром она повела меня к маме. Платье осталось на мне, игрушек не дала, сказав: «будешь жить со мной – игрушки будут твоими» Так и помниться всю жизнь Фрау Фиалка, красивой и почему-то одинокой.
Как-то на дороге встретилась девушка, она напугала меня своим видом, поведением. Прибежали дочери соседа — бауэра, и мы гурьбой пошли к дому незнакомки. Она оказалась душевно больной, спала она в сундуке и ее даже в нем запирали на ночь.
Хозяйка травмировала руку, поехала в госпиталь г.Линц. взяла и меня с собой. Она ходила по кабинетам. А я сидела в вестибюле с ее вещами. В пути меня многое удивляло, многое видела впервые. Хозяйка охотно все мне объясняла, быть в городе для нее событие. Мы привлекли к себе внимание и, тогда хозяйка сказала любопытным, что я русская. Они удивлялись чистоте моей речи. От их похвал у меня испортилось настроение. Меня пугало, что же будет, если мама перестанет меня понимать. Раньше она только и спрашивала меня: что сказал хозяин, не пойму чего хочет хозяйка. Я переводила ей. Таня тоже пугала: «Вот вернемся домой, после войны, а ты – ни бе, ни кукареку». И я начинала плакать.
Было уже тепло. Когда в 1943 г. Вернулся домой хозяйский сын Ганс. У него были ампутированы пальцы на руках и ногах. Ему было лет 20-25. Воевал он под Сталинградом. Ганс был первым человеком, кто проявил к нам участие. Он расспрашивал маму обо всем, ему она рассказала, что потеряла ребенка- девочку. Он посмеялся, когда узнал, что ребенку 17 лет. Ганс пообещал найти ее и забрать в свое хозяйство. Мы стали жить радостью встречи. Ганс Ксеню нашел, но забрать ее было невозможно. Ксеня находилась в Германии в г. Магдебурге, где работала на танкостроительном заводе «Крупа». Мама смогла только обменяться с ней письмами и, это было большим счастьем.
Уже после войны Ксеня вспоминала, как бомбили завод, как бомба попала в бомбоубежище, как расчищали завалы, сколько погибло нашей молодежи, а ее спас счастливый случай: подруга позвала ее. И она побежала к ней – в другое убежище. Рассказала, как кто-то по вырезывал кожу с сидений танков и после этого начались поиски виновных и вечные допросы.
В новогоднюю ночь 1944 года Ганс запряг в сани лошадку. Украдкой подозвал меня, укутал, усадил в сани, сел сам и мы покатили в сторону города Линц. Была тихая ночь. Падали редкие снежинки, на небе звезды и серпастая луна. Я спросила: «Куда едем?». «Приедешь и увидишь», ответил Ганс и запел. Приехали в предместье города. Встретила молодая женщина, провела в дом. В большой теплой, светлой комнате стояла нарядная елка, с тол с угощениями: на полу ковер, игрушки и двое детей, нарядно одетых и на два года младше меня. Дети показывали мне книжки с картинками, водили по квартире. Мне так хорошо было в этом уютном доме. Мне так хотелось, но я не посмела, попросить одну, самую маленькую с картинками. Сказка кончилась. Я снова в санях, на коленях у меня торт. Мы катим, делимся впечатлениями. И вдруг кровь застывает в жилах — мы проезжаем мимо дома психически больной девушки, в ее криках нет ничего человеческого. Мы и от зверей не слышали такого. А в природе все так же торжественно красиво. Но до самого дома мы уже не проронили ни слова. Ганс тихо завел в конюшню лошадку, провел меня в свою комнату, разделил торт пополам и просил никому не рассказывать, где мы были и кого видели. Когда я пришла с тортом, мама не спала, ждала меня. Слово я не сдержала, все рассказала. Мама меня утешала, сказав, что эта тайна для его близких, а я была, не знаю и сама где. Я радовалась, глядя, как Таня и мама ели торт.
Спустя много лет в новогодний вечер в кругу родных я вспоминала, как встречала 1944 год. Сестры высказали предположение : Ганс взял меня из чувства страха. В то военное время группами в два, три человека по дорогам в ночное время пробирались люди разные, в том числе и русские. И я должны была быть для него, если не надежным, то хоть «маленьким щитом» при встрече с этими людьми. Пусть так! Но он был для меня первым вражеским солдатом, который увидел во мне беззащитного ребенка-жертву войны. Я это чувствовала.
Фриц собирался в школу. Спрашиваю маму : «Почему все дети в школу идут. А я нет? Я тоже хочу. Мама горько улыбается : «Ты – русская, тебя не примут. Вот война кончится, и когда мы вернемся на Родину ты пойдешь в нашу школу».А я сейчас хочу.
Тайно от всех я начала «собираться тоже». Чистое платье, бант выстиран и отужен рукой, кусок хлеба с яблоком, без ранца и тетрадей, с полной уверенностью, что это добро в школе дают. Вышла незаметно за Фрицем. Он с сыном лавочницы, а я следом, на расстоянии. Чувства униженности не передать словами. Гурьба немецких детей, чем ближе к школе, увеличивалась. Кажется, вот-вот и сдамся, сбегу назад, разревусь. Но вот и школа, дети играют во дворе. Я стою одна за деревом, присматриваясь к детям своего возраста. Наконец, раздался звонок, все кинулись в двери школы. Я вошла последняя. Увидела двери класса, куда вошли самые маленькие. К двери подошла, а войти не могу. Стою, не знаю, чего жду. Коридор опустел, все двери закрылись. И я опять чувствую, что одна во вселенной. Кажется, прошла целая вечность. Где-то открылась дверь. По коридору идет мужчина. Подходит к моему классу и со словами «почему не входишь?» вталкивает меня в класс. Я сажусь на свободное место, как на трон! Перекличка. И тут выясняется, что меня нет в журнале. Пришлось объяснять — «я из России , война все идет и идет. Все дети пошли в школу, пришла и я — сама..». Учитель сказал: «Хорошо, садись».
Я на седьмом небе — меня приняли в школу. Все перемены просидела в классе, хлеб с яблоком съела. Из школы летела как на крыльях, спешила обрадовать маму и Таню.
Первой поругала меня хозяйка, « она без меня как без рук» — ведь я при всех на побегушках: принеси, отнеси, скажи, передай. За хозяйкой ругали меня и все остальные. Вечером на велосипеде прикатил «мой первый учитель» и сказал, чтоб меня больше в школу не посылали. Мама была расстроена больше, чем я. Ее ребенка «психически травмировали». А я сказала: «Подумаешь, в свою школу пойду! Как война кончится».
Вот с этого дня я – семилетка осознанно стала ждать День Победы, прихода освободителей – Советской Армии.
Ганс женился, у него родился сын. Его жена как-то в семейной ссоре с хозяйкой в моем присутствии обвинила ее в том, что она объедает «бедного ребенка» — меня. Выяснилось, что продуктовые карточки на нас она отоваривала тайком от мамы. На наши карточки получала сахар, а нам давала сахарин, масло, но никогда не ставила на стол. Жаль, что жена Ганса уехала из поместья с сыном. Мама никогда не выясняла этого вопроса.
Как-то в воскресенье появился в усадьбе фотограф, говорил по-русски. После революции эмигрировал из России. Сфотографировал меня и Таню, принес фото на память.
В начале 1945 г. под нашим окном останавливались ночами разные люди. Как-то мы услышали родную речь, обрадовались и отозвались. Мужчины попросили хлеба, табака. Днем они прятались в сарае в соломе. Мама дала, что могла.
Как-то вечером, снижаясь над нами, делал круги самолет. Мы замерли, задрав головы, готовые принять смерть. И вдруг хозяин отчаянно закричал: «Гасите свет!» Самолет сделал два круга и улетел. По звуку – бомбардировщик, После этого мы долго прислушивались и услышали взрыв. Я стала реветь, мама утешать меня и Таню. Где-то кто-то погиб. Мы живы. От верной смерти себя и всех нас спас хозяин. В декабре 2004 года я получила архивный документ, где работодателем значится Майр Петер. В семье нашей сохранилось в памяти только имя – Петер. Худощавый, малословный, требовательный к себе и людям, все эмоции в себе, не помню, чтобы он болел, лет ему было не менее 70. Он был совершенно равнодушный к нашей судьбе. И когда Ганс задался целью разыскать Ксеню, что бы забрать ее и соединить семью, проявив элементарное милосердие, Петер Майр его осудил и запретил ему этим заниматься. Но Ганс, который был покалечен войной, наперекор отцу сделал все, что было в его силах.
Каждое утро на дорогу выносится бидон молока — госпоставка. Люблю смотреть вдоль дороги. Интересно, когда и с какой стороны придут наши солдаты-освободители? Жду, когда можно будет рассмотреть. По дороге или беженцы.
Каждый день над нами пролетают самолеты красивым строем, назад возвращаются поодиночке. Над нами самолеты разворачиваются для нового захода на бомбежку город. Пожара не видим, а только клубы черного дыма. На полях много фольги, это противолокаторная защита.
Последний раз видела небо в клеточку – это так плотно, крыло в крыло в сторону города Линц пролетали высоко в синем небе солнечного дня самолеты союзных войск. От их гула дрожала под ногами земля, дыхание останавливалось от ужаса. Утром Петер Майр повесил на дерево белую простынь – символ капитуляции. Сутки в сторону г. Линц двигалась колонна крытых брезентом машин с солдатами. Взрослые попрятались, я и Таня сидели у дороги, подбирали и ели то, что солдаты выбрасывали, в основном это были галеты. Когда за горизонтом скрылась последняя машина, наступила удивительная тишина и в небе, и на земле. Ожидание. Простынь с дерева сняли.
Хозяин подводой ездил в г.Линц , брал с собой и Фрица и Таню. Из Линца Таня вернулась на велосипеде с двумя коробками. На подводе тоже был какой-то груз. Таня рассказала, что город в руинах, витрины магазинов побиты, все валяется под ногами. Люди что-то ищут, подбирают. Она подобрала велосипед и две коробки. Наверное, с конфетами. Спешили вернуться, боялись налета самолетов. В коробках оказался табак, Таня расстроилась, вспоминала: «какие красивые пуговицы валялись под ногами»!
Появился плакат черно-красный, на нем сцены казни: избиения, расстрела. Повешения. Это ждет всех, кто вернется на родину в Россию. Помню, мама кому-то объясняла: « Со мной дети , я должна вернуться, чтобы дети получили образование и имели Родину». По-моему, им был фотограф – эмигрант из России. Мама забеспокоилась, не знала куда бежать, кого спрашивать, как вернуться на родину? Появился американец, отобедал с хозяином, посоветовал ждать распоряжений особых. Ганс советовал остаться работать у них, говорил, что Советский Союз лежит в руинах. Народ бедствует.
По дороге со стороны г. Линц идет немецкий солдат на костылях. Шел он посередине дороги, спешил и, увидев меня, еще издалека взмахнул костылем и закричал: « Мир! Мир! Война кончилась»! Я побежала к взрослым с этой радостной вестью. Они побросали работу, побежали на дорогу, окружили солдата, расспрашивали, обнимали его, просили рассказывать снова и снова. Прибежало многодетное семейство бауэра – соседа. У нас был общий праздник – Гитлер – капут!
И вот мы снова узлами в толпе, теперь уже счастливых людей. Мы возвращались домой на родину! Мы увозили с собой память о трех годах тревожной жизни и коробку хорошего табака, которую мама в последнюю минуту догадалась выпросить у Петера Майра. И теперь в пути к дому мама меняла его на продукты. Солдаты хвалили табак за крепость и аромат. Мама говорила, что Таня не табак подобрала, а «скатерть – самобранку» . Мама табак меняла на тушенку, творог, хлеб и даже однажды на шоколад.
В пути к дому мы были долго, месяцами ждали транспорта. Помогали нам военные. Матери ворчали: дети опаздывали к началу учебного года.
Мы в Венгрии. Разместили нас в полуразрушенном большом здании без воды и какой-либо общей уборной. Вечерами мы убегали на площадь, где всегда звучала музыка, люди танцевали. С одной стороны стоял каркас многоэтажного здания, черный от сажи. Когда дул ветер, из окон летел пепел. На другой стороне площади здание сохранилось, все окна ярко светились. У входной двери по обе стороны портреты мужчин в полный рост. По периметру портретных рам горят цветные лампочки. Любили момент включения лампочек. Молодые солдаты играли с нами, мы висли на них. Это они нам объясняли кто на портретах. Слева В.И.Ленин, справа И.В.Сталин -руководитель государства.
Потом нас разместили в целом здании, рядом Дворец культуры, где репетирует духовой оркестр. Мы дети – свешиваемся с балкона, слушаем вальсы, марши. Вдруг совершенно незнакомая мелодия. Нам терпеливо объясняют: это звучит гимн СССР.
Время идет, мы смелеем и все дальше отходим от своей базы — стоянки. Как-то заходим в дом, на стене висит овальное зеркало. Оно поразило меня своей красотой среди беспорядка, мусора, запущенности. Матери нас ругают, пугают тем, что дом заминирован, опасно входить, что-то трогать.
Помню мост через какой-то приток Дуная, два солдата с автоматами. Побегать по мосту не пустили, и мы побежали под мост к воде. Бегу за детьми по узкой тропинке, падаю в бурьян на что-то твердое. Вижу под собой дуло. Кричу от страха. Прибегает с моста солдат, подбирает оружие, гонит нас со словами, «чтоб духа вашего здесь не было». Везде опасно. Мальчишки собирают пули, бросают в костер. Матери в ужасе. Они продолжали терять детей.
Живем месяц на одном месте. На базаре купить нечего. Кроме слив. Как-то самая сильная из матерей женщина переплыла речку и увидала там картофельное поле. Вернулась с подругой, нашли два мешка и поплыли за картошкой. Мы сидели на берегу, предвкушая, как будем, есть печеный на костре картофель. Начали женщины готовиться: завязали мешки, посидели «на дорожку». Выслушали советы с нашего берега. Поплыли. На середине реки подружка мешок бросила и, выбиваясь из сил, выползла на берег. Эта сильная женщина, тонула на наших глазах. Все кричали ей: «Таисия, бросай мешок, Таисия, не надо». Она так и утонула. Остался сын Вова десяти лет. Женщины бегали по инстанциям, требовали ускорить отправку нас домой, требовали организовать солдат и найти тело Таисии, волновались за судьбу мальчика. Он бегал вдоль берега, голосил. Говорили, что его отправили в госпиталь.
Мы снова переехали, обживаем новое место. Остатки когда-то добротного дома, развороченного до фундамента. Каким-то чудом живые еще деревья с вывернутыми корнями и присыпанные землей, воронка, окопы, разбросанная и покореженная военная техника. Если убрать следы войны и собрать все свое воображение, то можно увидеть, что здесь был когда-то старинный особняк с садом-парком, окружавшим дом с трех сторон. Играли мы здесь в прятки увлеченно, мест, куда спрятаться было предостаточно. Мы заметил, что за нами кто-то наблюдает. Среди ветвей увидели женщину, она что-то делала, сидя на стволе поваленного дерева. На другой день незнакомка была на том же месте. Это было «наше» место, мы не хотели его менять. Во время игры мы зашли со стороны ее спины и увидели, чем она занималась. Она рисовала нас – детей — на фоне войны черным карандашом на белом листе бумаги. Мы играли в прятки среди хаоса войны в когда-то райски красивом мирном уголке.
Это было, вероятно, в Румынии. Забрались мы в одичавший сад, стали рвать сливы. Из разрушенной хаты вышел мальчик лет десяти. Он стал гневно что-то кричать на нас, бросать камни. Мы в растерянности, на угрозы не отвечали. Вид у мальчика жалкий, жалкий. Дети молча вышли из сада. Я подошла к мальчику ближе и высыпала из подола сливы на траву. Он сразу успокоился. Потом мы видели, как он поглядывал за нашими играми. Был в лохмотьях, немытый, нечесаный, как говорила мама, запущенный ребенок. Как только мы звали его играть с нами, он уходил. Никогда мы не видели рядом с ним взрослых.
Помню, как стоим мы на вокзале в г. Красный Луч! Мы дома. «А куда мы теперь, мама, где наш дом»? – спрашиваю ее. Оказывается, что дома у нас нет и вообще у нас ничего нет: ни крыши над головой, ни работы у мамы, ни метрик на нас, ни постели, ни кастрюли, ни хлеба. Но одну большую радость мы узнали, пока подыскивали жилье, от людей. Нас искала Ксения и, не найдя, уехала в Ворошиловград, к родственникам. Пристроились мы на летней веранде, было начало осени. Помню, как появилась красивая, улыбающаяся девушка, обнимала меня. «Кто она»? – шепчу маме. «Твоя старшая сестра Ксения» — отвечает. Ксеня старше меня на 12 лет и, пока я росла, опекала меня как мать. Ксеня и Таня сфотографировались, а меня не взяли, я обиделась. Ксеня уже работала на вагоностроительном заводе и спешила на работу. Я ней я ездила потом во время каникул.
Повела меня мама в школу. «Почему опоздали»? – спросила строгая женщина. Мама объяснила. Когда мой вопрос был решен, мама спросила, а можно ли ей устроиться учительницей начальных классов. Места для мамы нет. Что-то обидное за маму я почувствовала в ее словах и тоне. Мама устроилась работать откатчицей на шахту, которую отец выводил из эксплуатации. По карточкам давали хлебный паек, ей 1200грамм. В школе посадили меня на последнюю парту догонять класс в написании палочек и крючочков. Учительница Ольга Васильевна – моя первая учительница с военными наградами на груди — выдала мне тетрадки в три косых линии и в клеточку. Была она требовательной, наблюдательной, заботливой, доброй. Я постоянно чувствовала ее заботу. Жаль, я проучилась у нее два класса всего. Каждое новое приобретение – карандаш, ручка. Перышко, чернильница, линейка, резинка, красный карандаш, сшитая из оберточной бумаги тетрадка для рисования, сшитые мамой две сумки для книг и чернильницы — вызывало волну радости!
Ночевали мы у людей, то на веранде, то в сарае. Наконец нас приютил одинокий старик Ефимович. Он занимал единственную комнату, где он спал и работал, а мы стали жить на полу, на кухне. Кровать, стол, две табуретки, печь. Кому-то приходилось спать на полу, когда мама работала не в ночную смену. Ефимович взял нас из-за угля. Когда мама работала во вторую смену, она всегда несла грудку антрацита. Это считалось воровством.
Ефимович был добрым, глубоко богомольным, занимался реставрацией икон. Он паял, сверлил, выпрямлял погнутые места, снимал черноту, чистил до сияния украшения, рамы икон. Он удивительно терпеливо относился ко мне. Не помню обид на него. Когда он собирался вздремнуть, я приставала к нему, просила рассказать сказку. Он обещал, но вначале предлагал почитать молитву. Читаю молитву за ним, а на сказку уже нет времени, нужно работать. Обещание переносит на следующий раз. В следующий раз было, то же самое. Я поняла, что сказок он просто не знает. Заявила ему: сказок нет, молитв учить не буду. Поручения его с удовольствием выполняла. Главное поручение: занести в церковь икону, которую он «вылечил» и принести
« раненую». Гордилась, когда при мне вешали на место, не спешила уходить, как — будто это я «вылечила» ее, а не Ефимович. Домой несла «раненую», любила наблюдать, как в руках Ефимовича она оживал.
Мама пришла с базара с белой буханкой хлеба. Помазала ее сахарным сиропом, посыпала цветным «пасхальным» пшеном, торжественно поставила на стол и объявила: « Завтра Пасха!». Мы на завтра счастливые расселись вокруг пасхи, Ефимович прочитал молитвы. Мама разрезает хлеб – пасху, а внутри опилки. Все были огорчены, мама до слез, а Ефимович вдвойне. Дело в том, что когда священник ходил по улице от дома к дому и святил пасхи, то наш дом обошел стороной. Между Ефимовичем и священником возник конфликт из-за оплаты работа по реставрации икон. Мама, сама плача, утешала Ефимовича, говорила, что священник поступил не по — божьи: конфликт не дает права обходить наш дом в такой день. Все долго охали, ахали, пока в двери кто-то постучался. Вошла женщина с соседней улицы и выставила из корзинки на стол «освященную» пасочку и три яйца. И началось: «Христос — воскрес», « Воистину воскрес»! Яйца порезали на дольки. Пасху порезали тоже, чай был сладким — как никогда. Женщина благодарила нашего Ефимовича за то, что он запаял кастрюлю, чайник, кружку. «Пусть Бог вам дает здоровья за все ваши добрые дела».
В воскресенье к нам пришел человек в длинном кожаном пальто. Он и мама сидели на табуретках друг против друга и тихо беседовали. Я ревниво вертелась у их колен. Человек угостил меня «подушечками», и я побежала на улицу, к Тане, угостила ее. Она конфет не взяла, погнала мен в дом, сказала, чтобы я от мамы ни на шаг, пока там этот человек. Бегу назад, верчусь у их колен. Мама просит позвать Таню. Пришла Таня и мама торжественно объявляет : «Этот человек хочет быть вашим отцом!» Таня громко хлопает дверью, потом возвращается и кричит: «Не надо, не хочу. Я все буду тебе делать!». Человек поднялся и сказал: «Ну, хорошо, успокойтесь, живите с мамой, я не буду вам мешать». Позже мы узнали, что он вернулся с фронта, а его жена с двумя дочерьми погибла под бомбежкой. Мама из-за нас осталась одинокой навсегда. Таня, став взрослой, имея уже семью, вспоминая этот случай, сказала: «Зачем ты меня послушала?»
Мы снова бездомные. Наш добрый Ефимович весной продал свой домик и выехал в другой город, к своим — близким. Живем в развалинах, в подземелье довоенной больницы, в каменной норе. Здесь я познакомилась с девочкой ровесницей Раей Смагиной. Ее мама работает на одной шахте с нашей мамой и тоже откатчицей. Давно уже нет такой тяжелой профессии. Откатчица загружает лопатой вагонетку углем и по рельсам откатывает к месту. Где цепляют вагонетку к тросу. По наклоненному стволу лебедкой вагонетку с углем поднимают на поверхность.
Рая была доброй, отчаянной, драчливой, как мальчишка. Она дралась, дразнила мальчишек, ходила, пританцовывая, по стене разрушенной двухэтажной школы и преследовавших ее ребят приглашала подняться к ней. Ребята называли ее «дурой — ненормальной» и решили, что лучше не связываться с ней.
Рая позвала меня в балку. Где у них огород с огурцами. Пришли, а из бурьянов выскочили двое ребят 12-14 лет. Рая кричит: «беги!». Но бежать я не могла, все тело вибрирует. Старший бьет меня по лицу, и ребята бегут за Раей. Не догнали. Вернулись, угрожали, что убьют, если еще раз увидят на своем огороде. Ребята стерегут свои огурцы каждый день. Они нормальные, обиделись, но не злые, даже чувствую их неловкость из-за того, что ударили меня. Я видеть Раю не хочу, обижена на нее за обман, а она, как ни в чем не бывало – улыбается. Она – дитя подземелья – знает, где можно спрятаться, хочет мне показать, но я отвечаю, что не собираюсь, ни воровать огурцы, ни прятаться. «Подумаешь! По огурцу сорвали бы, не обеднели бы, — бурчит она, борясь с совестью — у них отец есть!»
Помню. Мы идем в школу, ледком за ночь затянуло лужицы. Я босая. А Рая в чулках и тапочках их брезента. Вдруг она решительно снимает тапочки и отдает мне, я после школы их ей возвращаю. Через два дня узнаю, что она была бита за грязные чулки, за тапочки. Теперь я ухожу раньше, иду другой дорогой, но не тут-то было: из бурьяна выскакивает Рая, валит меня на землю, и насильно надевает тапки мне на ноги. Я жалуюсь маме. Таня уже работает рассыльной, ходит в вечернюю школу, и мама купила обувь ей. Я, тоже наконец дождалась тапочек и теперь с Раей дружно шагаем в школу. Но с ней вечно происходили разные приключения. Она дружила со всем классом, но, ни с кем конкретно. Учились мы в параллельных классах, в школу, из школы шли вместе. Свою маму она называла только на «Вы», но чужим могла тыкать.
Каждый день нам в школе давали булочку «плюшку» за 25 коп, а на базаре она стоила рубль. Эту булочку мама продавала, чтобы выкупить хлебный паек. Когда кто-то не приходил в школу или отказывался брать, Ольга Васильевна отдавала кому-то из детей. Дошла очередь получить такую булочку и мне, и тогда мама, радуясь, отдавала ее мне. Ела, я эту булочку, не кусая, а как конфетку-леденец.
Мама просит закрыть глаза и протянуть к ней ладошки. Я вся в ожидании чуда. Раскрываю глаза: на ладонях у меня чудо яблоко. Это яблоко большое, слегка приплюснутое, зеленое, с красными полосками, весом не менее 500грамм! Своей внучке я дарила красивые яблоки, но такое мне на рынке никогда не попадалось.
Мама объявила: «Сегодня праздник спаса, праздник урожая, когда едят яблоки с медом» и она подала мне кусочек рафинада. Рафинад съела. А яблоко не решалась, игралась. Уж больно красивым оно было. Дети всей улицы любовались, у многих были сады, но таких яблок в садах не было. И на вкус было чудным, по лепестку все попробовали, зернышки у меня забрали будущие садоводы любители.
Зимой я тяжело заболела. Дети пришли меня проведать, рассказали о всех новостях в классе: какие примеры решают, какой текст в «Родной речи» читают, какие оценки получают. Уходя, пожелали хорошо лечиться – пить кипяток! Такое время было. Оставили гостинец – сверточек с кусочками хлеба. Эти кусочки хлеба дети собрали от своих завтраков. Одни были величиной с орех, их больше, со спичечную коробку, а один был совсем большой – сто граммовый. Есть их, я не могла, перебирала хлебные кусочки, стараясь угадать, где чей. Но только, о сто граммовом пайке хлеба могла с уверенностью сказать, что это был завтрак Лени. Он всегда оставлял хлеб в парте, и все дети знали это и всегда старались забрать его. Некоторые, кто первым забирал этот кусочек хлеба, делились еще с двумя-тремя детьми, другие – нет. Были драки из-за этого кусочка. Леня был хорошим мальчиком, ему повезло больше, чем многим из нас – его отец вернулся с войны, в семье, как по тем временам, был достаток. Леню ребята любили. Когда ребята дрались за этот хлеб, хотелось попросить Леню не оставлять хлеб в парте. Ольга Васильевна знала о детских ссорах, но оставляла все как есть. Теперь я считаю это правильным.
Пришла мама и начала меня кормить. Ольга Васильевна выкупила мою булочку и передала детьми. Мама положила в кипяток кусочек сахара, размочила эту булочку и я с плачем глотала, совершенно не чувствуя вкуса ее.
Люди рассказывали маме, что когда город освободили немцы, городская власть обратилась по радио к жителям, чтобы пришли и забрали свои вещи, которые немцы у них отняли. Мама узнала, что был человек по фамилии Груц, который занимался этими вопросами. Мама решила найти этого человека, а через него хоть что-то из вещей найти, ведь мы гибли. В голодный 1947 год меня положили в больницу с истощением. Там лежало много таких детей. Одни высыхали, в мумии, в том числе и я, а другие пухли, в таких детей, мы, с их согласия, тыкали пальцем и наблюдали, как образовывалась ямка в теле и на глазах снова наполнялась жидкостью. Помню, как несчастные цыганки приносили своих детей полуживых, с плачем, скандалом оставляли в больнице, угрожали, что придут через неделю — две. И не дай бог, если кто-то из них умрет. Дети были маленькие, матери бросали их и уходили, а работники больницы уговаривали их прийти через неделю, когда выпишут оздоровленных и освободятся места для их детей.
Мне кажется, главным лекарством был рыбий жир. Эти дети, как сегодня сказали б, нелегалы. Всех потеснили, уложили по двое. Рыбий жир, как по столовой ложке получали, так и получали, в том числе и эти дети- «нелегалы». Все это горько вспоминать.
Прорвавшиеся подземные воды разрушили защитный целик и затопили шахту, на которой работала наша мама. Погиб человек. Мама чудом спаслась. Бежала по наклонному стволу, а вода за ней. Домой пришла в мокрой спецовке, совершенно — разбитая, от пережитого. Лежим с Таней обессиленные от голода и замерзаем. Приходит девушка лет двадцати, в валенках на босую ногу, из-под серого — вязанного платка подает нам две теплые пышки, шепчет: «от бабушки». Было это на масленицу. Через десять лет заезжаю в г. Красный Луч, ищу бабушку, девушку, не нахожу и до сих пор ком в горле от этих воспоминаний. От того, что не смогла этим людям поклониться и хоть чем-то отблагодарить за их милосердие к нам в те голодные годы.
Моя первая учительница Ольга Васильевна добилась для меня в 1947 году получить, бесплатно зимнее пальто из синей байки, на вате. Через месяц его не стало. Его просто ночью вытащили из-под моей головы, в очередной нашей «ночлежке», когда мама ушла на работу. Спасибо Ольге Васильевне за то, что не спросила о нем, когда я снова посиневшая стояла перед ней.
Страшным был 1947 год. Мама с хлебными карточками шла в магазин для их регистрации. Путь проходил через рынок, помнила об опасности. И все равно мы оказались, без хлебных карточек. Мама кричала так, что я не понимая причины ее нового горя, рыдала вместе с ней. Мы обнялись крепко и рыдали, пока не обессилели. Я успокаивала маму, была напугана, не хотелось даже знать, что случилось…
Нам выдали хлебные карточки-«пятидневки». Это значит, что получаем хлеб на 5 дней. Это плохо. Хлеб можно съесть за 3 дня, а 2 дня голодать. Мы выдержали, выстояли этот месяц. Оставался талон на 300 грамм, и мама доверила мне получить этот кусок хлеба. Завоз хлеба задержался, в магазин набилось много людей. Люди телами зажали мне лицо, дышать было нечем. Я потеряла сознание и уже не сопротивлялась. Рядом со мной оказалась женщина, которая закричала: « Ребенка задушили!» Откуда у нее взялись силы вытянуть меня из-под ног? Люди подняли и над головами передали мое тело к выходу. Меня положили на землю, кто-то из кулачка достал талончик на 300 грамм и передал продавцу. Помню, я лежала, а на груди у меня лежал кусочек хлеба, кто-то брызгал мне на лицо водой.
Мы — дети войны и послевоенных голодных лет – собирали картофельные очистки, на огородах паслен, в траве «калачики», варили суп из лободы, объедали гроздья белой и цвет желтой акации. В это страшное голодное время шахтерам выдали по коробке «американских подарков», мама тоже получила 1 раз. В коробке были: тушенка, арахисовое масло, мармелад. Все мелко расфасовано. Мама растянула это добро на 1,5 месяца. Помню: Таня уговаривала меня отлить немного из бутылки растительного масла и съесть с хлебным довеском, а потом в бутылку долить воды. Глядя нам в глаза, без обвинений и обид мама объяснила: «Скоро будем, хлеба есть вдоволь, а пока нужно – экономно, бережно, мудро относится к продуктам. Если я стану отдавать вам свой хлеб, у меня не будет сил ходить на работу. Всем будет плохо. Потерпите немного!» если отвечать на вопрос: кто спас меня в лихолетье – то я отвечу – мама! Слабая телом, сильная духом, добрая, нежная, с чувством материнской ответственности за жизнь детей.
Замуж вышла за Виктора Титова, горного инженера. Брак был счастливым. В возрасте 53 лет он перенес инсульт, стал инвалидом I группы, беду нес мужественно, с достоинством, умер через семь лет. Моим утешением стали: сын, названный в честь отца Александром, внучка Виктория, названная в честь мужа. Сестре Ксении по просьбе пою романсы в память о родителях и Татьяне.
Я относительно счастливый человек, а политикам мира хотелось бы сказать: «Когда вы стоите на вершине власти, и в своих уютных кабинетах планируете политику войной. Не будьте столь — амбициозными. На алтарь своих фальшивых «мудрых и светлых» лозунгов, не кладите искалеченные судьбы миллионов невинных людей, ибо будете со временем справедливо и сами затянуты в устроенную вами воронку смертей».
Я с первых месяцев принимаю участие в работе Тернопольского отделения Украинского союза узников – жертв нацизма. Награждена грамотами Тернопольским горисполкомом и Тернопольской областной государственной администрацией за активное участие в общественно-политической жизни края, грамотами Украинского и Международного союзами бывших узников- жертв фашизма за активную работу в антифашистском движении. Медалями за доблестный и за долголетний труд, юбилейными медалями победы в ВОВ и юбилейными медалями освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Сегодня главным и трудноразрешимым в работе Тернопольского отделения УСБМУФ остается установка памятного знака бывшим малолетним узникам-жертвам нацизма в парке славы на мемориальном комплексе «Материнський поклик». Для памяти во имя будущего, чтобы каждый мог сказать, к примеру, стихами Ады Родиной:
Благодарим судьбу,
За то, что нам позволено
У изголовья памяти побыть –
Омыть слезами камни скорбные,
Цветы живые возложить…
………………………..
Оплакивая горечь поколенья!»