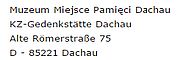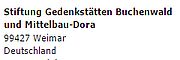Стальбовский Владимир Иосифович
«Главное управление СБУ в Крыму компрометирующими материалами периода Великой Отечественной войны на Стальбовского Владимира Иосифовича не располагает». Так заканчивается справка, выданная имярек указанным управлением. Сам документ изобилует перечислением различных пунктов, в которых за время войны побывало это лицо и даты (от и до) пребывания в них. Остается только удивляться возможностям чекистов, сумевшим так тщательно исследовать отрезок жизненного пути не генерала, не чиновной личности, а мальчишки — реушника (сейчас бы сказали «петеушника»). Почему он заинтересовал эту грозную организацию? Ответ не сразу дался в руки.
Перед самой войной Володе, которому к тому времени исполнилось 14 лет, удалось поступить в РУ-3 (ремесленное училище), которое располагалось в Севастополе. Это сейчас ПТУ считается прибежищем не совсем продвинутой молодежи, а в то время РУ было мечтой мальчишек: черная форма, ремень с сияющей пряжкой, хорошая кормежка, белоснежная постель в общежитии и по окончании гарантированная работа по специальности. Было к чему стремиться при той скудной жизни.
В 1938 году семью Стальбовских постигло горе; арестовали отца по 58 статье, а мать исключили из партии. Та написала в Москву жалобу. Оттуда было приказано разобраться. Мать восстановили в партии, а дело отца решили пересмотреть. Только было поздно — к тому времени его расстреляли.
С началом войны ремесленное училище занялось изготовлением военной продукции: гранаты, мины, минометы. Когда город оказался в осаде, мальчишек потянуло на фронт. В их числе был и Володя. Первый раз его вернули в училище, но в последующем он был зачислен в 125 отдельный танковый батальон Приморской армии в ремонтно-восстановительную роту. Запомнился такой эпизод.
Рядовой Стальбовский — дневальный в штабе батальона. Фонарь «Летучая мышь» освещает только тумбочку, на которой телефон. Невдалеке рвутся снаряды, трещат автоматные очереди — немцы штурмуют позиции защитников города. После совсем близкого разрыва наступила тишина, и дневальному показалось, что звякнул телефон, поднял трубку и удивился: не только голоса, но и зуммера не было. Должно быть на линии обрыв. Такое уже случалось. Кому сообщить об этом, если он один на весь штаб? Дежурный по части, уходя, приказал неотлучно находиться у телефона и ждать от него звонка. Что делать? Стоять у тумбочки, заранее зная, что дежурный до него никогда не дозвонится? А вдруг что-то важное захотят сообщить. Вспомнилось слышанное где-то выражение: хорошая связь — залог победы. Все, надо найти обрыв! Снял с плеча противогазную сумку и оставил на тумбочке, а на ее место взгромоздил телефонный аппарат.
Темную ноябрьскую ночь разрывали сполохи орудийных выстрелов, а * немецкие осветительные ракеты, которые молча повисали над городом, заливали его мертвым светом. Пошел, согнувшись, — в руке провод. Обрыв нашел рядом со свежей воронкой, от которой еще несло серой и пылью.
Соединил концы, проверил — зуммер появился. Когда вернулся в штаб, его уже ждал дежурный по части и еще какой-то командир. Дежурный сначала обрадовался появлению дневального, ибо уже успел посчитать его дезертиром, а потом, компенсируя невольный страх, раскричался, обвиняя рядового Стальбовского в самовольном оставлении поста. Немного поостыв, пояснил, что тот рисковал попасть в лапы немцам. Они, чтобы добыть языка, специально обрывают провод и ждут на этом месте связиста. Короче говоря, мальчику пригрозили трибуналом. Положение спас комбат капитан Ковтун-Станкевич. Уже на следующий день он, выслушав Володю, решил, что тот действовал, хоть и с небольшими нарушениями, но сообразуясь с обстановкой, и наказанию не подлежит.
Через много лет после войны Стальбовскому пришлось доказывать свое участие в обороне Севастополя. Он писал во многие инстанции, пока в 1969 году его не признали в этом ранге с вручением медали «За оборону Севастополя». И вдруг уже в 1975 году на бланке газеты «Крымская правда» он получает ответ на одно из своих давних писем: «29 января 1975 г., г. Евпатория, Репина, д.5б, В.И Стальбовскому. Уважаемый Владимир Иосифович!
Настоящим письмом подтверждаю, что Вы действительно служили в 125-м отдельном танковом батальоне Приморской армии в период обороны Севастополя в 1941-1942 годах в ремонтно-восстановительной роте. Б. (очевидно, «бывший» — А.С.) начальник оперативного отдела Приморской армии генерал-майор в отставке А. Ковтун-Станкевич». Стальбовский не стал выяснять детали появления этого письма, но это не помешало вспомнить добрым словом человека, который дважды пришел ему на выручку. «Спасибо Вам, товарищ генерал!» Вообще, как я понял, Владимиру Иосифовичу везло на хороших людей. Может, поэтому и жив остался.
К лету 1942 года Володя уже на передовой. Кольцо вокруг города сжимается. Херсонес оказался последним опорным пунктом славной обороны. За передовыми позициями раздался мощный взрыв. Это моряки дальнобойной батареи подорвали свои орудия.
Дальше было как во сне. Куда-то, отстреливаясь, бежали, преодолевая немыслимые кручи. Остановились у самой кромки воды. Кто-то, не снижая темпа, бросался в море и плыл. Куда? Кто-то тут же стрелялся. Но вот на высоком берегу показались немцы, дали несколько очередей по толпе. Рядом падали убитые и раненные. Володе попали в ногу. Сверху приказали поднять руки. Прекратилась стрельба, и вниз были сброшены веревочные лестницы. По ним стали подниматься бывшие защитники Севастополя, а теперь пленные вермахта.
Вряд ли в то время кто из них вспомнил, что более девятисот лет тому назад именно в этом месте принял обряд крещения Владимир Святославович, великий князь Киевский. Теперь же здесь происходило нечто противоположное тому славному событию — «крещение» фашистским мечом тех, кто остался живым после кровавых дней и ночей героической обороны. Владимир Стальбовский был в том числе.
Их построили в длинную колону и погнали. В замутненном мозгу мальчика пульсировала только одна мысль: «Бежать, бежать». И он, выбрав момент, прыгнул в неглубокую балку и побежал. Вскоре услышал лай: это по его следу неслась собака. Ранение ноги не позволяло увеличить скорость, и вот в нее, больную, впились собачьи клыки. Он упал, закрыв голову руками. Ждал последующих укусов, но их не было. Приоткрыл глаза. Собака сидела рядом и, свесив язык, тяжело дышала. «Фу, фу», — приказал он ей. Она незлобно зарычала. Ободренный, попытался встать, но более строгий рык его остановил. Вскоре прибежал солдат и, пнув пару раз ногой, поднял и возвратил в колонну. Так неудачно закончился первый побег. А может, наоборот, удачно — ведь мог и расстрелять.
До августа 1942 года Володя пробыл в лагере недалеко от станции Мекензиевы горы. Бежал и оттуда. За рубль, завалявшийся в кармане, переправился на другую сторону Северной бухты и вот он уже дома. Мамы не было, еды тоже. Погрыз сухие хлебные корочки и лег спать.
Потом началась жизнь, целиком связанная с добычей пропитания. Лазил по развалинам, находил какие-то вещи, ходил с мамой в села менять на продукты. У мамы была и другая жизнь, в которую она Володю не пускала, берегла. Ее уже раз вызывали в гестапо, но выпустили. Это могло повториться. Так и случилось. Его не было дома, когда маму арестовали во второй раз. Соседи сказали, что спрашивали и о нем. Несколько ночей спал в развалинах. Тайком наведывался домой, но маму все не выпускали. Соседи советовали уходить из Севастополя, а лучше — из Крыма. Объясняли, как это можно сделать: завербоваться на работу в Германию, а уже за Перекопом бежать.
Так и сделал. Где-то на Украине сбежал из эшелона и сразу направился на восток. Долго шел лесом, питаясь плодами деревьев и ягодами. Вышел к железнодорожной станции, там напросился к машинисту поезда в помощники — сбрасывать уголь с тендера. И надо было такому случиться, что уже под Днепропетровском он попал в облаву. Его, с такими же бедолагами, загнали в бывшую школу, а позже погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию.
В вагоне их охранял только один солдат, да и тот сидел у открытой двери, свесив ноги наружу, и играл на губной гармошке. Один из невольных попутчиков Володи толкнул солдата ногой в спину и тот полетел под откос. Все замерли от ужаса — ведь теперь на первой же станции узнают, что исчез солдат, и весь вагон будет расстрелян. Решили бежать. Воспользовались тем, что поезд шел на подъем, начали спрыгивать под откос и разбегаться во все стороны. Володя снова пошел на восток, по недолго продолжалось это путешествие. Был схвачен, и вот она — Германия!
На станции Торгау он работает грузчиком, В один из неудачных и таких же холодных дней он был схвачен каким-то бдительным стражем, который обратил внимание на то, что у остарбайтера под курткой надет нештатный пуловер — украл. При обыске отвязали кальсонные завязки, а оттуда посыпались мелкие макаронные изделия, которые Володя насыпал из разбитого ящика в надежде на то, что вечером сможет сварить. Его наказали двухнедельным пребыванием в штрафном лагере, который располагался рядом с химическим заводом. Возил на тачках (все бегом) серу и отходы производства. Кормили брюквой, пустым чаем с кусочком хлеба, зато после рабочего дня — пробежки по плацу. Кто не мог бежать и падал, того пристреливали. Кончился срок наказания, и Володя снова на железной дороге.
На этот раз его определили на вагоноремонтный завод. Он красит пульверизатором колесные тележки. О чудеса! За вредность получает пол литра молока. Все было бы хорошо, но его невзлюбил за что-то дед-надсмотрщик. Придирается, часто ни за что лупит веником, который, как дубинку, постоянно носил с собой. И вот такой случай. Володя в очередной раз заполнил баллон пульверизатора черной краской и уже изготовился нажать на спуск, как почувствовал удар по спине. Невольно вздрогнул и повернулся, а палец автоматически продолжил нажатие. Струя краски окатила обидчика с ног до головы. Им оказался тот дед-надзиратель. Провинившегося повели к начальству. Надзиратель объяснил, что маляр заленился, и он решил «подбодрить» его веником, а тот, в отместку, окатил его краской. Выслушав Володю, посмеялись и отправили продолжать работу, а деда с веником он больше не видел.
В воскресенье не работали. В этот день удавалось полазить по пустым вагонам, прибывающим в ремонт, в поисках брошенных, но полезных вещей. В этот раз Володя поживился душистым обмылком и карманной расческой. Зашел в почтовый вагон, и напоролся на солдата. Тот, увидев остарбайтера, бросился к нему и, зажав в углу, стал требовать возврата оружия. Как понял Володя, у солдата украли автомат. Ничего не добившись, солдат потащил его в лагерь. Там подняли тревогу, всех выстроили и недосчитались одного остарбайтера — Миши, с которым Володя и шастал по вагонам. Мишу нашли и обоих отправили в гестапо. Там их били и пытали, требуя выдачи оружия, которое они не крали. Затем их отправили в тюрьму, а оттуда в один из крупнейших концлагерей — Бухенвальд.
Знакомство с этим страшным местом началось с того, что его, как и других вновь прибывших, раздели донага, сбрили все волосы и приказали нырять с головой в бассейн, наполненный жидкостью грязно-желтого цвета. Закрыв глаза, нырнул. На дне наткнулся на что-то мягкое и понял, что это трупы. Пробкой вынырнул и мигом очутился на другом берегу. На дне лежали останки тех, кто не умел плавать или невзначай хлебнул той жидкости. От нее вся кожа горела огнем и, казалось, вот-вот будет отслаиваться. Погнали в душевую.
Потом узнал, что в этой же душевой не только моют, но и душат газами. Ему посчастливилось. Выдали лагерную одежду, три тряпочных винкеля — треугольники красного цвета с изображением буквы «К». Их нужно было пришить на шинель, куртку и штаны. Его метка означала, что он русский и политический. Французы, например, носили винкель с буквой «Р». Черный цвет треугольника означал, что его носитель — «неблагонадежный» (паникер, недовольный властью), розовый — гомосексуалист, зеленый — уголовник, коричневый — цыган.
Далее — две недели жуткого карантина. Каждый день проводилась проверка на вшивость. Первый день особенно запомнился, но не своей новизной, а тем, что человека, в одежде которого нашли вошь, тут же перед строем расстреляли.
Эсэсовец объявил через переводчика, что так будет с каждым, кто не в состоянии поддерживать установленные в лагере санитарные правила.
И вечером, лежа под самым потолком барака на четвертом этаже нар, Володя продолжал переживать случившееся. Ведь так и его могут пустить в распил из-за этой твари. Тело начало зудеть: ему казалось, что по нему ползают десятки, нет, сотни вшей. Он стянул с себя нижнюю рубаху и стал, при едва доходящем сюда тусклом свете, пристально рассматривать каждый шовчик. Ничего не найдя, немного успокоился. Заметил, что не он один занимается поиском паразитов. А вот сосед справа, заложив руки за голову, спокойно смотрит в потолок.
— Не боитесь пострадать из-за паршивой воши? — спросил его Володя.
— Нужно говорить не «воши», молодой человек, а «вши». Хотя, кому это сейчас надо? Что касается боязни, то сознаюсь — боюсь, но что толку, я и при дневном свете ее, проклятую, едва смогу увидеть. Кстати, у Сергея Михайловича, которого сегодня застрелили, было заболевание глаз, называемое катарактой. Он и днем не мог бы ее, паразитку, разглядеть. Так что царство ему небесное.
— Он же в очках был, — вспомнил Володя.
— При катаракте очки — плохой помощник. Завтра моя очередь, ибо страдаю такой же болячкой, но, видимо, в начальной стадии.
— Вы так спокойно говорите об этом, — удивился Володя.
— А кого здесь растрогают мои волненья?
— Хотите, я буду просматривать вашу рубашку? Сосед слегка повернул голову и, прищурив глаза, присмотрелся к Володе.
— Ты это серьезно? — спросил он.
— А почему нет? Я — глазастый!
— Это хорошо, что ты глазастый, и еще хорошо, что ты готов прийти незнакомому человеку на помощь, но… лучше не надо. Кстати, как тебя зовут? А меня — Никита Павлович, я из города Николаева, что на Украине. Сдыхал о таком?
— Слыхал. Ведь я из Севастополя! А почему вы отказываетесь?
— А ты представь себе, землячок, чем ты рискуешь, берясь помогать мне. Вошь — такая мерзость, что не заметишь, как она к тебе заползет, а цена ей, оказывается, — наша жизнь. И вот представь себе такую ситуацию. Ты торопишься, чтобы успеть осмотреть мою рубаху и, в спешке, не замечаешь эту сволочь на своей одежде. Я не говорю, каково будет мне осознавать свою вину, но ты-то проклянешь и меня, и тот час, когда взялся помогать мне. Разве не так?
— Не так, Никита Павлович. Я же вам сказал, что я из Севастополя, так у нас было правило: сам погибай, а товарища выручай! Хуже будет, если я у вас эту сволочь не досмотрю. Совесть будет мучить.
— Вот и я об этом. Лучше оставим, как было, и забудем о нашем разговоре.
— Э, нет, Никита Павлович, я никогда гадом не был и не буду им! Снимайте рубашку. Я ее сейчас осмотрю, а утром еще раз.
Обовшивевших продолжали расстреливать, но Володю и Никиту Павловича эта участь миновала.
После карантина появились другие опасения. Из лагеря периодически отправлялись эшелоны с уже «отфильтрованными» заключенными. Куда? Со страхом перешептывались о какой-то «Доре». О ней было известно только то, что, попавшие туда, обратно никогда не возвращались. После войны открылась и эта страшная тайна. Оказывается «Дора» являлась филиалом Бухенвальда, заводом по изготовлению самолетов-снарядов «ФАУ», которыми обстреливал Лондон. Размещался завод в подземных цехах и, в строжайшей секретности, обслуживался заключенными из Бухенвальда. Все они были обречены на уничтожение.
Дошла очередь и Володи уезжать из концлагеря. Загнали в вагон и повезли. На «Дору»? Состав остановился на небольшой станции. Несколько вагонов выгрузили, остальные поехали дальше. Володя оказался в числе выгрузившихся. Утром построили и погнали к башне, высившейся невдалеке. По тридцать человек загоняли в башню, и они куда-то исчезали. Неужели «Дора»? Нет, это был концлагерь Бендорф. С тревожным сердцем Володя вошел в башню и оказался в шахтной клети. Она пошла вниз, и он очутился в мраморном зале, ярко освещенном прожекторами. Но это был не мраморный дворец, а соляная шахта. Их повели по узкому коридору, вырубленному в соляной толще. Примерно через три километра легкого подъема перед ними открылись решетчатые ворота, и они очутились в другом зале, еще больше первого. Потолки высоченные, по стенам шестьдесят две комнаты, отгороженные от зала решетками. Коридор, которым пришли заключенные, имел продолжение на другой стороне зала. Такие же ворота и возле них часовой в эсэсовской форме. Туда заходят только немцы, да и то по пропускам. По бетонному полу проложены узкоколейные рельсы, по ним «игрушечные» мотовозы тянут небольшие платформы, груженные ящиками. Под землю их опускают грузовой клетью, рядом пассажирская, по только для немцев. Если первая шахта была глубиной более пятисот метров, то вторая — около трехсот. Вторую шахту называли «Марией». В конце рабочего дня открывались ворота, и заключенные возвращались в первую шахту и там уже поднимались наверх клетью. Шахта «Мария» была оборудована и лестницей, построенной в трехсотметровом квадратном колодце. К его стенам прикреплены лестничные пролеты.
Володя состоял в бригаде, которая разгружала платформы и разносила ящики по комнатам. Руководил ими пожилой немец. Он так хорошо ориентировался в этом сложном складском хозяйстве, что работа шла без суеты и понуканий. Как выяснилось, здесь складировали авиационное имущество, начиная с авиамоторов, агрегатов и вооружения, и кончая парашютным шелком. Иногда состав проходил мимо них и углублялся в таинственный коридор, охраняемый эсэсовцем.
Как-то, уже через несколько дней совместной работы, бригадир, провожая взглядом своих соотечественников, проходящих в таинственный коридор, ехидно проговорил:
— Все секреты, секреты. Даже от заведомых смертников секреты. Возможно, ему было завидно, что не посвящен в тайну того коридора, но заключенных не интересовали его переживания, а то, что он такое сказал о смертниках. Ведь они не на «Доре», может, оговорился?
— Нет, ребята, ваша судьба определена уже номерами на вашей одежде. Скорее всего, и мне, — с некоторой долей гордой печали сказал он, — грозит такой же конец. Мы, как я думаю, все здесь смертники. Зальют шахту водой, и будем в ней плавать, как рыбы.
Видимо, не только он этого опасался. Как-то пришли в свое подземелье и должны были начать работу, но грузы почему-то сверху не подавали. Бригады сбились в кучки, Немцы сгруппировались у клети и тоже что-то горячо обсуждали. Вдруг тревожную тишину нарушила сирена. Неизвестно по какому поводу она была включена там, на поверхности, но здесь, в подземелье, она сыграла роль детонатора. У шахтных клетей произошла давка, раздались выстрелы. Стреляли и по своим, и по лагерникам. Кто-то опомнился и бросился к деревянной лестнице, выходящей на поверхность. Теперь давка и там. Только часовой у того коридора стоял, будто его никак не встревожила та сирена.
Володя заметался вместе со всеми, но вдруг вспомнил о роковом номере и остановился: стоит ли спешить, если наверху ждет смерть? Осмотрелся. У клети уже навели порядок. Немцы, хоть и нервничали, но не дрались при посадке, а только толкались. На бетонке валялось несколько трупов. Подошел и увидел на одном из них номер, отличающийся от его номера. Взял убитого за ноги и потащил подальше от клети. Никого не заинтересовали его действия. Спрятавшись за мотовозом, снял с трупа одежду и напялил на себя. Теперь можно подниматься.
Где-то в высоте — светлое пятно выхода. Под лестницей валялось несколько человек — молчаливых и стонущих. Занимать очередь здесь было не принято, поэтому Володя врезался в толпу и, извиваясь ужом, стал протискиваться к лестнице. Взбираться было трудно, хотелось остановиться и отдышаться, но, подпираемый сзади, полз. Иногда ломались перила и вниз пролетали люди. Володя старался быть ближе к стене, но его отталкивали, отталкивал и он.
На поверхности никому не нужен был его номер. Вылезших из шахты сразу направляли к поезду, составленному из нескольких полувагонов. Погрузка закончилась быстро, но только под вечер поезд тихо, без гудков, тронулся. Утром поняли, что едут на восток. Перед железнодорожным мостом, пересекающим реку, надолго остановились. Вдоль вагонов побежали крикуны, которые на разных языках, призывали объявиться человеку, умеющему управлять паровозом. Пополз слух, что мост заминирован, поэтому штатный машинист-немец не захотел рисковать, и отказался ехать дальше. Машинист нашелся, и состав пополз через мост. На той стороне поезд остановили эсэсовцы. Начальник поезда, тоже эсэсовец, побежал к черной легковушке, в которой, должно быть, находилось уже его начальство. Вскоре там раздался выстрел. Это убили их эсэсовца. После этого состав пополз обратно через мост. Володя взобрался на кромку полувагона, изготовившись прыгать в реку, если раздастся взрыв. Заключенные обсуждали причину гибели начальника поезда. Высказывали мнение, что он хотел сдать поезд русским. Мост проехали благополучно.
Во второй половине апреля 1945 года они оказались в Людвигшлюсте, где располагался «лагерь смерти». В нем не было газовых камер и крематория, но здесь вовсе не кормили. Вся лагерная площадь была начисто лишена растительности, но заключенные продолжали рыться в земле, надеясь найти хоть какой-нибудь засохший корешок. Вскоре дошло и до трупоедства.
Володя узнал, что где-то среди административных строений находится кухня для обслуживающего персонала лагеря и туда, для чистки картошки, привлекаются каких-то десять человек из числа заключенных. Эти люди держатся особняком и, пользуясь тем, что не ослаблены голодом, успешно отбиваются от тех, кто пытался занять их место. И вот на одном из построений, когда офицер через переводчика, в который уже раз, втолковывал заключенным правила поведения в лагере, сосед по шеренге кивком головы указал Володе где находится эта вожделенная кухня. Она была чуть ли не за спиной. Только раздалась команда «разойдись», как он ящерицей подполз под колючую проволоку и оказался перед дверью кухни. Она охранялась пожилым солдатом. Володя проскочил мимо него и оказался в овощном цехе. Там все было готово для чистки картошки. Видимо, рабочих отвлекло построение и они сейчас вернуться. Он занял место подальше от края и, взяв в руку специальный нож с зубчиками, начал усердно им орудовать. Забегали другие заключенные и сразу, без слов, садились за работу. Вскоре мест стало не хватать. Началась давка. Вошёл повар с солдатами, и нескольких человек вытолкали за дверь. Володя остался!
Уже на другой день, по просьбе товарищей по нарам, он наполнил два небольших ведра помоями и понес туда, где его ждали. Шел, стараясь быть малозаметным, но все равно был остановлен окриком, К счастью, это был не окрик часового или рык более сильного лагерника, а чистый женский голос: «Мальчик, мальчик, ты куда это понес?» Поставив ведра на землю, остановился. К нему приближалась молодая, хорошо одетая немка. Но почему она говорит по-русски? Женщина приблизилась и стала доброжелательно расспрашивать, зачем ему эти помои? Он объяснил. Женщина вернула его на кухню и велела повару наполнить одно ведро «приличной пищей» (она полагает, что это лучше двух ведер помоев) и велела не мешать мальчику его нести. Со слов повара, фрау Ханна была женой оберштурмфюрера Дитмара, начальника лагеря. Он состоял раньше в охране Гиммлера и сюда был переведен совсем недавно. Мать фрау Ханны была русской. Она вышла замуж за немца и выехала с ним из Союза далеко до войны. Фрау Ханна не ограничилась разовой помощью. Она велела повару ежедневно отпускать ее подшефному ведро еды. Так Володя, подкармливая восьмерых товарищей по бараку, спас их от голодной смерти.
Кончался апрель, и над лагерем появились самолеты со странными белыми звездами. Это были американцы. Они не бомбили и не обстреливали лагерь — только облетывали. Первого мая к лагерю подогнали пустой состав. Заключенных загнали в вагоны. Прошла ночь. Утром немцы, перебежками (самолеты продолжали летать), скрылись в ближайшем лесу. Вагоны никто не охранял, лагерные ворота остались открытыми. Бывшие заключенные занялись поисками еды. Посыпались разбитые стекла, с коттеджей срывались двери. Володя со своими восемью товарищами бросились на розыски фрау Ханны. Если она не ушла в лес, то ее нужно остеречь от возможных издевательств. Не нашли. Видно, все же ушла с мужем.
Еще два дня пробыли в лагере. Приезжали журналисты, стягивали трупы в одну кучу, фотографировали, снимали кинокамерами. На третий день к лагерю подошли автобусы и всех вывезли в американский госпиталь. Там переодели в гражданскую одежду и начали выхаживать. Пошли слухи, что их собираются вывезти в Штаты. Кто-то радовался этому, а Володя рвался в Крым, в родной Севастополь. Все эти годы ему, если не снилась еда, то обязательно виделось море, зажатое в угрюмые берега, и почему-то не отчий дом, а только Исторический бульвар и Графская пристань. Ему до боли в сердце хотелось увидеть мать и то, что осталось в памяти: еще не разбитый, сверкающий в лучах солнца белый город, и ласковое море. Это стало наваждением, от которого он не мог избавиться даже в самые трудные дни несладкой жизни.
Узнал, что где-то невдалеке стоят советские войска. Подобрались несколько человек, которые не хотели попадать в капиталистическое рабство, и пошли на восток. Где-то в лесу встретили подводу с двумя советскими солдатами, которые сказали, что они уже на «нашей» территории.
Город Магдебург — в советской зоне оккупации. С бывшими узниками фашизма разговаривают спокойно, но въедливо, сортируют и отправляют кого куда. Кто-то призывался в армию, кого-то отпускали домой, но основная масса отправлялась в мордовские фильтрационные лагеря, которые не так уж сильно отличались от фашистских концентрационных. В них работали следователи из ведомства Берии, которые окончательно определяли судьбу человека.
В СМЕРШе заинтересовались Стальбовским после того, как узнали, что он горбатился в соляной шахте, где немцы, как было им заявлено, складировали авиационное имущество. В то время район Бендорфа был в американском ведении, поэтому проверить полученные сведения русские не могли, но были наметки, что этот район скоро отойдет в советскую зону. Володе приказали никому не рассказывать о шахте и, назначив на пищевое довольствие при воинской части, оставили в Магдебурге.
Когда зоны определились, спустились в шахту, но кроме гладких стен, ничего там не увидели. Вызвали Стальбовского и строго предупредили, чтобы впредь не морочил занятым людям голову, ибо в шахте «Мария» никакими складами и не пахнет. Володя стал доказывать обратное, но так и не смог переубедить чекистов — ведь они своими глазами видели голые стены. Тогда он, хоть и не хотел этого делать, предложил допустить его в шахту, чтобы самому все посмотреть. Предложение сразу отмели, по на следующее утро снова вызвали в «контору».
— Подумал? — спросили его.
— О чем я должен был думать? — удивился Володя.
— Так были склады или не были?!
— Я уже сказал, что были! Что еще не ясно?
— Хорошо, проверим.
Неизвестно от чего у Володи было тревожно на сердце: от возвращения к месту прошлых мытарств или от чувства неопределенности, связанного с неожиданно исчезнувшим имуществом. Он понимал, что сейчас увидит то же, что до него видели военные, т.е. голые стены. Что будет делать дальше? Погладит их и скажет: «Дяденьки, я ошибся». Но он не только видел, но и входил в эти склады. Куда они могли деться?
Занятый этими мыслями, он не заметил, как проделал по лестнице обратный путь и очутился снова на бетонном полу шахты «Мария». Прожектора не работали, только лучи фонариков, находящиеся в руках чекистов, пронизывали пустую темноту. Было ощущение, что он не туда попал. Даже рельсовых путей почему-то не было. Вернулся к лестнице и посмотрел вверх. Вон там светлое пятно-выход на поверхность. Вот здесь валялись трупы и лестница такая же с поломанными перилами. Вернулся. Чекисты угрюмо следили за его хождением. Лучи фонарей продолжали шарить по девственным стенам, выхватывая оттуда причудливо сверкающие кристаллы соли.
— Какие еще будут соображения, гражданин трепач?- спросил майор, который не один раз до этого допрашивал Володю. Он растерянно молчал, щурясь под направленными на него лучами.
— Все ясно, — сказал кто-то из темноты, — пошли, чего зря время терять. Стальбовский, как завороженный, взял из рук ближайшего военного фонарь и подошел к правой от него стене.
— Вот здесь, — сказал он, показывая вперед рукой, — был коридор. Там всегда стоял часовой и пропускал только немцев.
— И где он сейчас этот коридор с немцем? — спросили с издевкой.
— Не знаю, но он тут был! — его голос сорвался до фальцета.
— Без истерики, Стальбовский. Здесь, товарищи, делать нечего. Пойдемте.
— А вот тут, левее, был склад парашютного шелка, — как во сне, продолжал Володя, — закрывался он решеткой.
Стальбовский был в отчаянии. За эти годы он не один раз испытывал унижения и издевательства, но то были враги, а тут свои откровенно его . презирают. Он отошел от стены на предполагаемую ширину коридора и, застучав кулаком по гладкой стене, закричал:
— Вот тут, вот тут, даю голову на отсечение, был склад! Был! Был! В изнеможении он сполз по стене на пол и, впервые за все годы испытаний, заплакал. Военные молча стояли возле него. Кто-то сказал:
— Где наша не пропадала! Давайте вызовем сюда саперов и подорвем это место?
— Ну, ну, — возразил другой, — может, немцы на то и рассчитывали. Подорвем, а там сдетонирует какая-нибудь штучка, и поминай, как звали.
— Ты прав, лейтенант, — согласился майор. — Сделаем так: сержант, смотайся на верх и найди там какое-либо кайло, кирку или, на худой конец, топор. Но только быстро.
Сержант побежал к лестнице. В ожидании инструмента, военные закурили и о чем-то разговаривали, Володя, безучастный ко всему, так и остался сидеть в темноте. Фонарик у него забрали.
Сержант принес кирку.
— Где рубить? — спросил майор у Володи. Тот ткнул пальцем в стену. Первые удары были робкими, прислушивались к звукам. Но тут сержант неожиданно взвыл — соль попала в глаза. Его сменил другой военный, которому приказали рубить с закрытыми глазами.
По мере того, как кирка все больше углублялась в соляную толщу, рубить становилось труднее. Надежда на скорый результат не оправдывалась. Военные могут плюнуть на все и уйти. Пусть идут, но он останется и будет сам долбить эту треклятую соль до той поры, пока не доберется до склада или… останется здесь навечно. Вдруг монотонные вязкие звуки сменили тональность — кирка обо что-то звякнула. Кто-то крикнул:
— Осторожно!
Прислушались и бросились к стене. Один из военных запустил руку в развороченное углубление и замер, счастливо улыбаясь.
— Ну, что там?
— Что-то другое. Вроде железа.
Теперь стену поочередно рубили все, кроме Володи. Он, в изнеможении, никому не нужный, сидел в стороне. Соляные блоки, потерявшие сцепление между собой, вываливались под небольшим нажимом, обнажая решетчатую стену. За ней, под лучами фонарей, просматривались деревянные ящики. Много ящиков!
— Сколько, ты говорил, здесь таких складов? — спросили Володю. Он ответил, чем вызвал у военных прилив энтузиазма.
Прошло немало времени, прежде чем Володю снова вызвали в СМЕРШ. Знакомый майор встал из-за стола и пошел ему навстречу, расправляя под ремнем гимнастерку, на которой поблескивал новенький орден «Боевого Красного знамени». Крепко пожал руку и, провожая к столу, сказал:
— Молодец, Стальбовский! Здорово ты нам помог! Скажу откровенно — в этом ордене есть и твоя заслуженная частица. Увидев, как загорелись у юноши глаза, добавил:
— Хотели и тебя представить к награде, ну хоть к медали, но там (офицер поднял глаза к потолку) сказали, что нельзя. Сам понимаешь: плен, оккупация.
— Понимаю, — угрюмо согласился Стальбовский. Офицер, усевшись на свое место, спросил:
— Чай будешь?
— Я только позавтракал.
— Тогда к делу. Хочешь, я могу устроить тебя служить в очень хорошую часть.
— Я домой хочу.
Офицер на некоторое время задумался, а затем решительно проговорил:
— Пожалуй, ты это заслужил. Награду дать не могу, а домой отправить — в моих силах, а на службу могут и в Крыму призвать. Дня через три проездные документы будут готовы. Если буду на месте, зайдешь попрощаться.
Володе показалось, что офицер с изрядной долей радости согласился на его отъезд. Это и понятно. Как-никак, он замаливает свою недоработку, не смог добиться награды для человека, который, по сути, и обеспечил ему такой высокий орден. Уедет этот малец, и сразу забудется, кто ковал ему эту награду.
— Я могу идти?
— Успеешь. Тебя интересует, куда вел тот коридор, что эсэсовцы охраняли? Так вот слушай. Мы, когда обнаружили склады, провели в шахту электричество и стали метр за метром все исследовать. Так и нашли тот коридор, о котором ты говорил. Там немцы устроили заготовку соляных блоков. Ими и заложили те склады, а заключенных, делавших эту работу, пустили в расход. Их трупы мы нашли прикопанными за башней. А наши авиационные начальники, когда увидели, что хранится в складах «Марии», радовались, как дети. Вот так-то, Стальбовский. Еще раз спасибо тебе. А сейчас иди. Когда все будет готово, тебя вызовут.
Только в сентябре 1945 года Володя Стальбовский отбыл на родину. Документы были так хорошо сделаны, что он без сучка и задоринки проделал весь путь из Германии до Крыма.
Вот и родной Севастополь. Руины его не удивили, он их уже видел. Поразила тишина. Не было грохота орудий, треска автоматов, истошных криков команд и, раздирающих душу, стонов раненых. Редкие жители молча сновали между развалин, даже моряки, громогласные и веселые до войны, были непривычно серьезны.
Соседи сообщили Володе, что его маму гестаповцы так и не выпустили. Люди видели, как ее вели по Историческому бульвару на расстрел. Это случилось еще в 1942 году. Значит, когда он с мамой мысленно разговаривал, то ее уже не было в живых.
Сын пытался разыскать место ее захоронения, но в городе уже начались восстановительные работы. Коснулись они и Исторического бульвара. Когда понял, что его поиски бесполезны, почувствовал себя настолько одиноким в этом городе, что решился на то, о чем еще вчера и подумать не мог. Он уехал к родственникам в Раздольненский район, а позже обосновался в Евпатории, где и живет по сей день.
Мне, автору этих строк, довелось познакомиться с Володей Стальбовским где-то пятьдесят лет тому назад. Он работал токарем в артели «Стахановец», а я слесарем. Сколько часов провели вместе в курилке, но никогда не слыхал от него чего-либо подобного, о чем рассказано в этом очерке.
Потом артель преобразовалась в завод «Вымпел». Мы с Володей продолжали общаться, и нужно отметить, что с ним, как токарем высокой квалификации, было легко решать любые технические проблемы. Кроме мастерства, меня привлекала его всегдашняя нацеленность на выполнение задачи. Он не нервничал, когда что-то не получалось, не матерился, не упрекал за недомыслие.
Пенсионные годы (мы одногодки) надолго развели нас, и вот я краем уха узнаю некоторые детали из его биографии. Удивился тому, что столько лет об этом ничего не знал. При встрече упрекнул его в этом, на что получил обоснованный ответ: «Ведь я в нашем советском обществе долгое время ходил в изгоях. О чем было рассказывать?», «Так сколько времени прошло, как опомнились!», «Так привычка молчать осталась». Не удивился такому ответу, потому что сам прожил жизнь в той эпохе и самому было что умалчивать.
Но не это главное. Знаете, чем обрадовал меня Владимир Иосифович? Осознанием того, что не перевелись еще на белом свете люди, способные ценить жизнь такой, какой она сложилась. Он не щелкал на паркете каблуками, не звенел шпорами на парадах, не пылал тщеславием и не грешил гордыней — он просто жил, построил дом, вырастил детей, посадил не один десяток деревьев, добросовестно работал на производстве. Надо думать, что те испытания, что свалились на его голову, не прибавили здоровья, но трезво смотреть на жизнь научили. Это хорошо заметно и в мелочах: он в беседе не воспаряет в хвастовстве и не разменивается на брюзжание. Ни в коем случае я не хотел бы побывать там, где страдал Владимир Иосифович, но очень желал бы, чтобы и сам располагал этими редкими в наше время качествами.