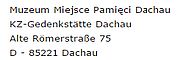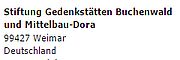Соболев Алексей Михайлович
Родился 18 июня 1935 года в городе Брянск, в семье военнослужащего. Мать Соболева Пелагея Семеновна, по профессии — повар-инструктор, была домохозяйкой. Отец — Соболев Михаил Егорович, старший лейтенант, командир роты связи, погиб на западной границе СССР в первый день войны.
В годы войны я оказался на территории Германии вместе с матерью, депортированные немецкой оккупационной властью на принудительные работы.
В немецком городе Герлиц службой гестапо был насильно разделен с матерью и определен в приют, где был онемечен с полной утратой родного языка (программа «Lebensborn»). Мать вследствие психического надлома была помещена гестаповцами в специальное учреждение для душевнобольных, где и скончалась.
Освобожден в баварском г. Фильсбибург международной службой UNRRA, под опекой которой находился вплоть до возращения на Родину.
После войны воспитывался в Переславском детском доме Ярославской области.
В 1954 году окончил ремесленное училище г. Щербакова (г. Рыбинск), а в 1958 году — Ташкентский индустриальный техникум трудовых резервов. С 1958 года — рабочий, затем мастер, технолог, ведущий конструктор, зав. сектором Сумского завода электронных микроскопов и электроавтоматики (ныне — АО «SELMI»). Лауреат премии и Почетного диплома за выдающийся вклад в научно-технический прогресс предприятия.
На пенсию вышел в 1996 году. Женат, в семье две дочери 1974 и 1977 годов рождения. Старшая дочь Мария окончила факультет математики и информатики Сумского педагогического института. Работает в АО «SELMI». Младшая дочь Екатерина окончила Киевский колледж связи. Работает на предприятии связи. Жена Вера Александровна окончила Муромский радиотехнический техникум. Работает в в АО «SELMI».
В 1992 году был избран председателем Сумского областного отделения Украинского союза узников-жертв нацизма. Возглавлял общественную комиссию УСУЖН по выработке проекта закона «О жертвах нацизма».
В 1998 году награжден Почетным знаком Президента Украины — орденом «За заслуги» ІІІ степени.
ЧТО СОХРАНИЛА ДЕТСКАЯ ПАМЯТЬ
Причина, по которой немецкая хозяйка так безжалостно выбросила нас с мамой на улицу, словно провинившихся щенков, навсегда осталась для меня тайной. Скорее всего, раскрылось, что у нее в прислугах — семья советского офицера. Ведь, неспроста мама мне твердила: «Если немцы, сынок, будут спрашивать, кем был твой папа, отвечай — телефонистом. Никогда не говори правду‚ что был офицером».
Так она оказалась в застенках гестапо, а я — в знакомом лагерном бараке, с двумя рядами двухэтажных нар, с которых началось наше первое знакомство с Германией.
В гестапо ее подвергали пыткам, а она требовала лишь одного — вернуть ее сына. Когда палачи уступили ее требованиям и доставили меня к ней — я ее не узнал, даже испугался ее вида. Ее держали несколько человек в черном, одежда была порвана, волосы растрепаны, она пыталась вырваться и все повторяла, завидев меня: «Алик, сынок, не покидай меня, двоих они не убьют…» Это были последние слова моей матери, которые никогда не забуду. Я начал реветь. Мне трудно описывать эту жуткую сцену расправы над мамой, а тем более рассказывать на людях. Все время срываюсь, накатываются слезы. И врагу не желаю испытать то, что испытал тогда в стенах гестапо.
А ведь мне было тогда всего-то 7 лет. Кто и за что навлек на нас такую беду? Гестаповцам все же удалось меня отвлечь и увести и, таким образом, сделать виновником гибели собственной матери. Так и ношу я в себе это чувство вины. Сейчас мне говорят, что если бы остался при ней, то казнили бы обоих. Возможно, это было бы и лучше — не пришлось бы всю жизнь ходить с этим тяжелым чувством вины.
Теперь, остановлюсь подробнее, что последовало за этими трагическими событиями. Некоторые детали могут выглядеть фантастическими, но от них никуда не уйти, я всё это хорошо помню, словно случилось только вчера.
Меня должны были отвести в холодный лагерный барак, но я почему — то оказался один на темных (была уже ночь) улицах города Гёрлица — этого небольшого немецкого городка. Может быть к тому человеку, который должен был доставить меня в барак, применима наша пословица “Мир не без добрых людей»? Но ведь он очень рисковал.
Как бы там ни было, но мне были уготованы испытания на выживание в чужой и вражеской стране.
Первое, что я сделал, почувствовав безысходность — попытался вновь вернуться к матери. Несколько человек, к которым я обратился в коридоре гестапо (эти люди, я думаю, находились здесь тоже не по своей воле), ответили, что мою маму куда-то увели немцы и ее в этом здании нет. Возвращаться к нашей немецкой хозяйке, после всего случившегося, я не помышлял и пошел бродить по ночному городу.
Видимо, была глубокая осень (счета ни дням, ни месяцам я не вел, так как никогда не видел перед собой календаря, да и понимал ли что в нем в 7 лет), я сильно промерз и в поисках тепла и света не нашел ничего лучшего, как сесть в ночной трамвай, спрятавшись от глаз кондукторши. Куда я ехал и зачем — сам не понимал.
Главное, в трамвае было светло и теплее, чем на улице. Не догадывался я и о том, что на конечной остановке, когда все покинут трамвай, меня обнаружат. Так и случилось. На окраине города, на кольце, когда трамвай опустел‚ меня заметила пожилая женщина — кондуктор с рулончиками билетов на груди, и за отсутствием проездного талона вышвырнула с руганью в темноту. Хотя, теперь я могу предполагать, что она приметила меня с момента посадки (дети в таком возрасте и без родителей по ночам в трамваях не катаются) и лишь «держала паузу“.
Темная окраина города меня еще больше напугала и я немедля зашагал вслед уходящему трамваю. Возвращаться в барак мне очень и очень не хотелось (хотя позже он станет поворотным моментом в моей дальнейшей судьбе), а ночлег надо было где — то искать.
В городе Гёрлице даже в войну были платные (без обслуживающего персонала) общественные туалеты. Этим заведением я и решил воспользоваться. Искал спасения от одолевавшего холода.
Если мне не изменяет память, в монтированный в дверь монетоприемник надо было бросить 20 пфенигов и только тогда можно было войти внутрь. Эту мелочь я нашел при свете луны на дне какого-то небольшого фонтанчика и‚ таким образом, оказался в небольшой и чистой комнатке, где были и вода, и туалетная бумага. 3десь я уже стал ощущать еще и голод и додумался потрошить каким — то предметом (что — то вроде небольшого куска проволоки) монетоприемник, пытаясь раздобыть деньги. На эти деньги я надеялся утром купить себе что- то поесть, чтобы как — то утолить одолевавший голод. Вот, за этим занятием меня и застал добрый старый немец по имени Отто, которого никогда не забуду.
Этот одинокий старик повел меня к себе домой, одев на мои ручки свои огромные черные кожаные перчатки. Сейчас, спустя более 50 лет, я ношу зимой похожие перчатки и, когда их одеваю, каждый раз вспоминаю этого доброго человека. Дома он меня помыл, согрел, накормил и показал чудо‚ которого до этого я никогда в жизни не видел. Я впервые увидел изумительной красоты рыбок, которые мерно плавали в больших стеклянных коробках среди красивых трав. Тогда я считал, что рыбы водятся только в речках. 3авораживали меня и пузырьки, поднимавшиеся вверх из стеклянных трубочек. Видно, аквариумы были единственным и последним утешением в жизни старика Отто.
Но не долго мне довелось любоваться этой красотой и ощущать на себе ласку Отто. Через день — другой гестапо обнаружило исчезновение мальчика Альберта (это мое настоящее имя). Прибывшие гестаповцы с криком набросились на моего Отто‚ грубо схватили меня и доставили в тот самый барак, которого я так упорно избегал.
Один мир в мгновение сменился другим: знакомые деревянные нары, соломенные матрасы, плач детей…
И вот, в этом лагерном бараке со мной произошел несчастный случай, в корне изменивший мою дальнейшую судьбу.
Холодный барак слегка отапливался каким — то сооружением, в виде вертикально стоящей бочки (подобие нашей «буржуйки»). Однажды, одна из женщин попросила меня подать ей стоявшую на этой бочке кружку с водой, которой она собиралась, как я теперь думаю, согреть своего кашляющего и плачущего ребенка. Я поднял руку, пытаясь достать кружку, обжег пальцы, машинально дернул руку и опрокинул на свое лицо уже вовсю кипевшую воду. На мой крик и плач в панике сбежались обитатели барака‚ потребовали охрану срочно вызвать врача. Меня немедля доставили в госпиталь. Вот так, волею случая, я навсегда расстался с этим бараком.
В госпитале мне забинтовали голову, из-за бинтов ничего не видел, только и чувствовал, как иногда заливали в рот через носик какого-то сосуда куриный бульон. Сколько здесь пролежал – не помню.
Только, когда сняли бинты, убедился‚ что глаза не пострадали.
Помню, прежде чем вновь наложить повязку, врачи обильно поливали бинты какой-то противно пахнущей ярко-желтой жидкостью. Оставили щель для глаз, и я, таким образом, уже мог изучать новую для меня обстановку.
Кроме меня, в палате лежали ещё какие-то дети, а у изголовья больничных коек висели небольшие таблички с ломаной линией. Теперь понятно, что это была кривая температуры каждого больного ребёнка. Висела такая табличка и надо мной.
После выздоровления я был определен в Диаконисский детский дом в Гёрлице. Речь — только немецкая. Сколько в нем пробыл — не помню.
С приближением фронта (все чаще стала раздаваться воздушная тревога) всех детей погрузили на поезд с крестами на бортах и увезли на юг Германии в Баварию. Здесь я и был определен в Санкт—Иоханесский детский дом города Фильсбибурга‚ находившийся, видимо, под попечительством местного монастыря. Если есть на свете Бог‚ то только он мог избавить меня от дальнейших испытаний, определив в этот приют.
О жизни и быте в этом католическом приюте остановлюсь также подробнее.
Это было небольшое, казавшееся выше остальных домов, здание.
Построено оно было на небольшой возвышенности (одна из улиц города проходила чуть ниже). Под фронтоном большими буквами была выполнена надпись «Кinderheim» (или «Кinderhaus” — боюсь ошибиться).
Если попытаться охарактеризовать режим этого приюта одним словом, то наиболее подходящим будет слово «Аскетизм».
Опекали нас всего две женщины, облаченные в черные, длинные монашеские одежды. Одна — сравнительно молодая, черноволосая, другая — старуха с высохшими костлявыми руками. На головах они постоянно носили белоснежные накрахмаленные головные уборы с ниспадавшими на плечи отворотами (не знаю, как эти головные уборы именуются у католиков). День начинался с утреннего туалета, старуха осматривала глаза, заглядывала в уши.
Завтракать заходили все одновременно. Стол, включая столовые принадлежности всегда был сервирован, вилки и ложки у каждого лежали возле тарелки только там, где им надлежало лежать. За едой категорически запрещалось разговаривать. 3аняв свое место за столом, прежде чем сесть, необходимо было переплести на груди пальцы рук и произнести короткую молитву, повторяя слова за монашкой. Этот ритуал заканчивался словом «Аминь». Ни кому не позволялось покидать стол, пока не поест последний из нас.
Поскольку у некоторых детей на головах были лишаи (пятно размером с монету и поредевшими на нем волосами), детей ежедневно выстраивали в очередь на осмотр головы. У кого обнаруживали лишай, тому старая монашка тщательно втирала в это место какую-то зловонную мазь, остальные молча дожидались своей очереди. Был небольшой лишай и у меня. Вот почему мне так запомнились эти сухие костлявые руки старой монашки. Днем дети были заняты слушанием немецких сказок, а прослушав очередную из них, надо было нарисовать цветными мелками, на висевшей на стене доске, какой-либо запомнившийся эпизод сказки. С этим занятием я был‚ как помню, не в ладах. Были комнатные развивающие игры, требовавшие сообразительности и некоторого напряжения памяти (одну из них до сих пор помню). Во второй половине дня усваивали церковное пение. Тем, кто усердно пел и не фальшивил, давали маленькие бумажные бирки с подписью наставницы. Тех, у кого потом их оказывалось больше всех, поощряли. Эти бирки я хранил под подушкой своей 2-х ярусной деревянной кровати (я спал наверху) и однажды обнаружил, что часть бирок исчезла. Следовательно, среди нас имело место и мелкое безвинное воровство. Дети — есть дети.
Посещали мы костёл, где слушали небольшой орган. Старый органист при этом усердно нажимал педали этого божественного инструмента. Здесь происходило также песнопение и чтение молитв. При желании, некоторым из нас позволялось прикоснуться к клавишам органа и извлечь из него завораживающие звуки.
Дети в приюте были самых разных национальностей: немцы, русские, поляки, чехи и т.д. Словом, дети — сироты. Язык — только немецкий.
Большинство, как и я, родной язык забыли. Все — онемеченные. О наших родителях никто и никогда не упоминал, словно их не было вовсе. Из одежды запомнились тяжелые короткие шорты, сшитые из толстой кожи. Через плечи проходили удерживавшие их ремни с красочной кожаной перемычкой на груди. В некоторых местах эти тяжелые шорты жали, но жалобы в расчет не принимались. Надо было привыкать. Каждый день перед сном дети принимали теплый душ. Это была душевая человек на 10-15‚ ноги были постоянно в теплой воде, что обеспечивал небольшой бассейн, высота стенок которого была, примерно, 20 см.
Ближе к осени детей снарядили в расположенную поблизости школу. Каждому был выдан школьный ранец. Пошел в 1-й класс немецкой школы и я. Учились писать и считать на небольших черных грифельных досках в деревянной рамке. Царапали на этих досках черными грифельными палочками с твердостью камня. Написанное на этих черных досках было белого цвета и легко удалялось влажной губкой.
В этой школе я получил первую в жизни оценку «1»,что означало «Отлично». Худшей школьной отметкой была «6». Несмотря на военное время, я видел, как какие — то дети собирали макулатуру.
Недавно мне стало известно, что в военное время в фашистской Германии существовала державшаяся в тайне программа «Lebensborn», целью которой было пополнение немецкой нации за счет расово полноценных детей из оккупированных территорий (об этой программе есть упоминание в книге Уильяма Стайрона «Выбор Софи»). Полагаю, попал под эту программу и я. Вот почему эти дети — будущие граждане Германии — были предметом особого внимания и за6оты. Дети навсегда должны были забыть свою настоящую родину, язык, своих родителей. Отныне, родиной для них должна была стать великая Германия, а родным отцом- фюрер.
Не знаю, какова была бы дальнейшая судьба каждого из нас, если бы не приход американцев со службой UNRRA. Одной из главных задач этой службы было возвращение на родину детей, оказавшихся волею судьбы на территории фашистской Германии. Был среди них и я. Самым трудным было безошибочно установить национальную принадлежность каждого ребенка. Родная речь у каждого из нас была начисто стерта из памяти (после возвращения на родину речь вернулась в считанные дни. Думаю, этот феномен мог бы стать хорошим предметом научного исследования ученых).
Проверка и повторная регистрация детей производились в американских детских лагерях городов Прин (Prien) и Индерсдорф (Indersdorf). Затем — передача в советскую зону оккупации (г.Франкфурт на Одере). Один из последних поездов с детьми прибыл в Брест 1 мая 1947 года. С ним прибыл на Родину и я. Последующие 20 лет я посвятил трудному поиску родных, как по линии отца, так и по линии матери. Разыскал всех. Отец погиб геройски 22 июня 1941 года при переправе его роты связи через реку Неман, увековечен в граните, занесен в Книгу Памяти.
В гибели матери в застенках гестапо немалая доля вины лежит и на мне. Спустя многие годы, нашёл её фамилию в списках жертв фашистского концлагеря Равенсбрюк.
Лагерный номер 139. Была доставлена в лагерь в марте 1945 года.
Это моя личная трагедия.
г. Сумы, 11 апреля 1999г.