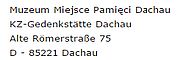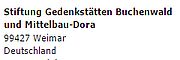Шлеин Александр Константинович
Родился я в 1934 году в деревне Ольховка Пажеревичского района Псковской области. Летом 1941 года на нашу страну напали фашисты. При отступлении часть наших войск была расквартирована по избам в нашей деревне Ольховка и начала строить оборонительные сооружения – рыть окопы, траншеи. Видимо, была поставлена задача сдержать натиск врага. Деревня Ольховка была небольшой и продуктов явно не хватало. Кормили солдат всем, чем могли. Мы, малыши, с солдатскими котелками бегали по соседним деревням за молоком и приносили всё, что давали.
Но под стремительным наступлением фашистов нашим войскам пришлось отойти. И вот, ярким солнечным утром, мы впервые увидели дым войны. Мне, ребёнку, он особенно запомнился. В голубом небе послышался рёв самолёта. Его моторы работали с перебоями – то заревут, то стихнут. А через мгновение мы увидели над деревней падающий самолёт, за которым тянулся шлейф чёрного дыма. Вдруг самолёт заюлил, завертелся волчком и исчез за деревней. Наши деревенские ребятишки сразу бросились к предполагаемому месту падения этого самолёта, думая, что это совсем рядом. А оказалось, что он упал в мелкую кустарную поросль в трёх километрах от нашей Ольховки. Подбегая к самолёту, мы впервые увидели огромную, блестящую на солнце, двухмоторную машину. Около подбитого самолёта находились два лётчика в тёмно-синих комбинезонах. Никого из нас к самолёту не подпустили. Для себя мы решили, что пилоты хотят как-то спешно подлатать самолёт и взлететь. Но немец быстро наступал и лётчики скрылись в неизвестном направлении.
Как только фашисты ворвались в нашу деревню, они обнаружили этот самолёт и сожгли его. По ночам немцев не было видно – боялись партизан. Зато днём бесчинствовали вовсю. С криком отбирали всё, картавя на русском языке: «Матка, голёва твой – капуста, тавай бистро-бистро курка, яйка, млека, маслё». И давай с засученными рукавами доить коров и ловить по деревне кур. А ночью опять в деревню наведывались партизаны. В одну из таких ночей с партизанами ушла вся молодёжь, способная воевать. Ушел и мой двоюродный брат Аггей. С войны он так и не вернулся – погиб.
Немцы страшно боялись партизан. Всех, кого они подозревали в связях с партизанами, сразу расстреливали. Под подозрение попала и моя троюродная сестра Марфа (а ей в ту пору было 16 лет), её отец и мать. Их дом находился в полутора километрах от деревни, в лесистом районе. На чердаке этого дома фашисты обнаружили коробку из-под патронов, за что и расстреляли всех троих разрывными пулями. Нашли их, засыпанных снегом, лишь на третий день. Вот так и жила наша деревня: днем – немцы, ночью – партизаны. А мы, дети, боялись и дня, и ночи. И у немцев, и у партизан – в руках оружие. От бряцанья им у нас, малышей, мурашки по телу. И вот, где-то в ноябре 1942 года, нашу родную деревню Ольховку гитлеровцы сожгли до тла. Осталась не замеченной лишь одна банька. А вскоре, словно обнаружив свою оплошность, сожгли и её. Когда горела деревня, её жители покидали дома кто в чём. Фашисты всех согнали в котлован-воронку, образовавшуюся, возможно, от огромной бомбы, и вокруг расставили автоматчиков. Видно, намеревались всех уничтожить. Неожиданно из их штаба, находившегося в трёх километрах от нашей деревни, прискакали на лошадях трое в мундирах и нас, как скот, погнали в соседнюю деревню. Там всех затолкали в пустую избу и приставили часового. А ночью раздался стук, гам, шум, дверь выломалась и народ врассыпную – кто куда. Кто-то побежал в морозную ночь в лес, кто-то к родственникам в другую деревню. В нашей семье эти события пережили шесть человек: отец Константин Степанович, который не был призван в армию после финской войны по состоянию здоровья, мать Анна Макаровна, старший брат Григорий 1931 года рождения, сестра Анна 1936 года рождения, младший брат Иван 1937 года рождения и я. Всем нам после побега пришлось остановиться в деревне Сорокине у нашей тётки. А через несколько дней во время облавы нас обнаружили и вывезли на железнодорожную станцию Чихачёво, где загнали на второй этаж школы. Ночью в окно, которое было в углу с тыльной стороны, кто-то постучал по раме. Глянули – а там стоит на санях наш старенький дед Макар. Так и увёз он нас из этой школы к себе в соседнюю деревню Дружинино. Прожили мы у деда Макара несколько дней. Вдруг по деревне прошёл слух: кто укрывает жителей сожжённой деревни – будут расстреляны. Наш дед заволновался – не хочется погибать от рук фашистов.
В морозном лесу четверых детей, почти голых, не спрячешь – погибнут. И решил спрятать у той тётки в деревне Сорокине – мол, второй раз фашисты в поисках беглецов туда не сунутся. Но план деда Макара провалился. Ночью во время облавы нас, сонных, подняли и приставили охранника. А отца, для острастки, трое автоматчиков среди ночи вывели на улицу и стали водить по тем местам, где лежали под снегом в канавах расстрелянные ими и уже замёрзшие трупы. Его предупредили: ещё один побег – и с вами всеми будет то же самое. Таким образом, мы вторично оказались на станции Чихачёво. На этот раз – в переполненном вагоне-телятнике. Куда везут – никто не знал. Но через боковые щели вагона удавалось подсмотреть горевшие фашистские составы, пущенные партизанами под откос. Привезли нас в Литву. Развозили ночью обозом кого-куда. По дороге встречались за колючей проволокой под открытым небом наши военнопленные. Лунной морозной ночью, завидев обоз, некоторые военнопленные подбегали к ограждению и кричали: «Мы из Тамбова, есть кто? Мы из Саратова, есть кто? Мы из Уфы, есть кто?» — и так далее. Но тут же появлялись надзиратели с собаками и отгоняли военнопленных.
Привёз нас извозчик в деревню Кульнички к одному помещику. Работали у него все, кроме самых маленьких. Кормил хозяин плохо – раз в день картошкой. Постоянно ощущая голод, мы ходили по соседним хуторам и просили милостыню. Кто-то давал охотно, досаждая разными расспросами, а кто-то при нашем приближении к усадьбе выпускал собак. Жили мы в каком-то строении, то ли изба, то ли сарай. Пол земляной, прямо на нём мы разводили костёр и грелись. По вечерам к нам наведывались какие-то мужчины и о чём-то вели беседы. О чём они беседовали, нам, детям, знать было не положено. Только хорошо запомнилась сказанная нам каким-то литовцем одна фраза: «Вот как, скоро война кончится, вино будем пить, вот как!» Вскоре хозяину мы все стали неугодны и весной 1943 года он отвёз и передал нас в распоряжение немцев.
Так мы оказались в Германии. А там – лагеря да лагеря. Что за лагеря – не ведаю. Помнится, в этих лагерях были и наши военнопленные. От военнопленных мы, гражданские, были отделены несколькими рядами колючей проволоки. Почти всё время находились на карантине. По утрам всех выводили на аппельплац для проверки. Содержались мы в лагерях Швайнфурта, а также Мельрихштадта. Есть давали раз в сутки: баланда из гнилой капусты и брюквы, хлеб-эрзац (на шесть человек одна маленькая буханка). Иногда немецкие солдаты, демонстрируя «доброту», бросали за колючую проволоку кусочки сухарей, да туда, где больше грязи. А мы, дети, свои тощие морды царапали в этой грязи, а они – смеются. Смерть не один раз смотрела нам в глаза даже там, где её и не ждёшь. Туалеты были устроены так, что можно было туда пойти и не вернуться. Так я с меньшим братишкой чуть не нырнул туда. Туалеты чистили военнопленные, которые иногда оттуда вытаскивали и трупы. Один из военнопленных и подхватил нас, когда мы с братишкой чуть не упали в клоаку.
В этих лагерях фашисты с нами не церемонились. Делали какие-то уколы, прививки, осыпали какой-то пылью. Только они и знали, что с нами делали. У взрослых были номера с нашивкой, а дети ходили под голубым знаком, похожим на букву «О». В одном из лагерей (не помню в котором) мы ходили буквально по захоронениям наших замученных солдат. Об этом нам однажды поведали наши военнопленные.
Весной 1944 года из очередного лагеря нашу семью купил бауэр и привёз на свою ферму. Ферма эта располагалась в трёх километрах от населённого пункта Хаузен. У бауэра приходилось работать всем, включая детей. Наш хозяин отличался особой, гитлеровской жестокостью. За малейшую провинность – палкой по плечам. Стегали нас хозяйка и её дети. А есть давали – немного перегонного молока да кусочек хлеба. При этом гитлеровце-изверге нам было очень плохо. Хотели бежать, да некуда. Жильё наше было на втором этаже под навесом. Солнце совсем не попадало. Вдаль ничего не видно, смотришь только вниз. Под нами внизу располагалась кузница, в которой последнее время нередко сидели солдаты с винтовками (в 1,5 километрах от фермы за небольшим леском располагался какой-то военный городок или лагерь барачного типа). И однажды нашего хозяина-гитлеровца забрали на фронт. Больше мы его не видели.
У нас появился новый хозяин – инвалид с восточного фронта. Ему и его жене было лет по 50. Они оказались хорошими людьми – полной противоположностью прежнему нашему хозяину-извергу. Однажды к нам пришли трое со взведёнными автоматами – видно, хотели нас расстрелять. Но наш новый шеф и его жена не позволили им этого сделать. Спасибо им, хорошие были люди. При них нам стало жить значительно легче. Нам, детям, даже ботинки выдали. Правда, подошвы у них были деревянные, но мы, тем не менее, были «на седьмом небе». Начались налёты американской авиации на расположенный рядом военный лагерь. Но бомбы падали мимо цели, некоторые из них не взрывались. Меня и старшего брата заставляли возить на тачке и складировать эти не взорвавшиеся бомбы. Весной 1945 года нас освобождают американские войска. Первая мысль – скорее домой. И хотя ни дома, ни нашей Ольховки уже нет, но есть Родина. Наш хозяин и его жена со слезами на глазах очень просят нас остаться. Мол, и дети в школу пойдут, и вы тут будете работать. Но наш отец – только на Родину и всё! Его слова: «Перед Родиной я ни в чём не виноват», – я хорошо помню.
Не дожидаясь конца войны, мы тронулись в путь. Американцы перебрасывали нас с места на место, предлагали выехать в Америку, давали какие-то адреса, но отец был непреклонен –домой и всё тут.
Лишь к концу лета 1945 года мы добрались до своего пепелища. И закрутились наши головушки. Отца органы забрали на фильтрационную проверку, но он скоро вернулся. Стали мы думать, как бы нам вновь отстроиться, да средств никаких не было. Неожиданно подвернулся какой-то старичок-вербовщик. Так мы оказались по вербовке в Эстонии на химзаводе «Маарду», где и поныне живут мои родные.
В 1956 году я был в командировке на химическом заводе в городе Сумы. Здесь познакомился с украинской девушкой, которая потом стала моей женой. С тех пор живу в Сумах. В годы войны у меня был тяжело травмирован глаз. Потом 9 лет нелёгкого труда на химзаводе. Общий трудовой стаж – 43 года. Почти всех членов нашей семьи, побывавших в фашистской неволе, постигла общая беда – болезнь сахарный диабет. Мой младший брат Ваня заболел в 14 лет, умер. Дочь старшего брата Григория заболела в 14 лет, умерла. Мой младший сын Андрей тоже заболел в 14 лет, умер. Если иметь в виду, что в нашем роду никто раньше не болел сахарным диабетом, то у меня есть все основания эти несчастья связывать с выпавшими на нашу семью в годы войны испытаниями. Случайности здесь не может быть: всех, кого я перечислил, болезнь настигла в одно время – в 14 лет.
С 1995 года я на пенсии, инвалид 2–й группы. Жена тяжело больна, прикована к постели. От Германии через Украинский национальный Фонд «Взаимопонимание и примирение» получил скромную гуманитарную помощь, которая как-то быстро ушла на лечение. К сожалению, немецким законом о Фонде «Память, ответственность и будущее» нам, детям, попавшим в фашистскую неволю в возрасте до 12 лет, гуманитарные выплаты напрямую не предусмотрены. Хотя нам в их законе и «оказана честь» оговоркой: мол, разрешаем украинскому фонду «урезать» выплаты взрослым и поделиться этими «отрезками» с нами. Такое ощущение, словно тебя снова унижают, как и 60 лет назад. Но на этот раз – хитросплетениями немецкого закона о Фонде «Память, ответственность и будущее». А ведь добрые дела принято и делать-то по-доброму.
Мы, дети, попавшие в неволю, терпели унижения и оскорбления, страдали морально и физически. Страх, голод, холод – всего не перечислишь. И я убеждён: каждый, оказавшийся ребёнком в неволе, сейчас инвалид. А нам, детям фашистской неволи, Германия должна платить пожизненной пенсией, как платит другим странам. Платить надо за всё: за сожжённые дома, за угнанный скот, за наше изуродованное детство, за оскорбления и унижения, за страх, голод и холод, за искалеченные и травмированные наши души, за нанесённые нам глубокие раны, которые не излечимы до последних дней своих, за раннюю смерть уже наших детей и болезни наших внуков! Вот на чём должны основываться наши требования к Германии. И это было бы справедливо как с исторической, так и с моральной точки зрения.