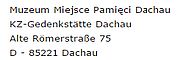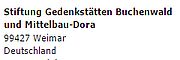Межевикина (Мандрика) Надежда Петровна
Родилась 27 января 1926 года в селе Фрунзе Херсонской области Ивановского района в семье колхозника. Семья состояла из 6 человек. Отец работал конюхом, мама была ланковой на хлопке. До войны у нас сеяли хлопок. Денег в колхозе не давали, работали за трудодни. Жили очень бедно. В конце года начисляли на заработанный трудодень зерно. Потом сдавали его государству и получали квитанцию, на какую сумму можно отовариваться в магазине. По неделе стояли в очереди, чтобы взять какой-нибудь материи и обуви, хоть одну пару на двоих. Трое нас ходили в школу. Старшая сестра работала с мамой на ланке, окончила 4 класса, чтобы больше заработать и нас обуть, одеть.
До войны я окончила 7 классов, мечтала быть учительницей, чтобы давать деткам знание и радость. Летом работала в колхозе на прополке, а когда начинались морозы, нас посылали собирать хлопок. Но мечта моя не сбылась, началась война.
Когда в 1941 году к нам пришли немцы, то занимались в школе дети до 4 класса. Я работала в колхозе, коровами своими пахали, бороновали, скирдовали, а в 1943 г., помню, пололи подсолнухи и сели отдохнуть. Увидели, едет на тачанке комендант, все встали, и давай полоть, а один из ребят сидел. Комендант заметил издалека, что он сидел. И когда подъехал, то начал бить его плеткой. Мы все молча работали, даже боялись посмотреть.
В августе 1943 г. отправляли в Германию на работу всех, кто родился в 1926 году и кто прошел комиссию. В списке была и я. Сколько было слез. Я никогда из дома не отлучалась, даже не видела поезда, от станции мы жили за 60 километров. 23 августа 1943 г. нас повезли на станцию лошадьми. Сопровождал полицейский, чтобы никто не убежал. Посадили нас в товарные вагоны, закрыли на засов и повезли. Спали на полу в вагоне. Не помню, в каком городе поезд остановился, нас повели на комиссию. Заставили раздеться догола и поочередно мы заходили к врачам. И снова посадили в вагоны и повезли дальше.
В Германии не знаю, в каких городах нас выстраивали в круг и хозяева отбирали себе рабочую силу. Меня никто не выбрал, я была очень маленькая и худенькая. Кто остался, привезли в Ганновер. Поселили нас в лагере за 6 километров от аккумуляторной фабрики. Возили на работу машиной. Но прожили мы там немного. Помню, под Покрову наш лагерь бомбили и от зажигательных бомб все бараки сгорели. Мы метались по маленьким клочечкам земли, которые были отгорожены один от другого проволокой, остались живы. Нас переселили на фабрику в подвальное помещение, там был свет и вода, спали на соломе. Возле фабрики было очень много лагерей. С одного лагеря выселили пленных итальянцев и поселили туда нас. Огорожен лагерь колючей проволкой и на выходе жила комендантша, женщина, звали ее Мария. У нее была большая собака. Очень была строгая комендантша. Ночью с фонарем ходила по штубам, проверяла, все ли на месте. Нас было по 30 человек в штубе. Кровати трехярусные, матрац, набитый стружками, и одеяло, простынь не было. Клопов было полно, ночами не могла уснуть. Посреди штубы стоял длинный стол и две скамейки, и печка буржуйка. Утром давали чай почти несладкий, а вечером, как придем с работы, суп из брюквы, иногда с цветной капустой. По праздникам суп из мучных звездочек. Только по червергам давали хлеб и колбасу-варенку. Кто работал во вредном цехе, давали целый кирпичик хлеба, не помню, сколько грамм, и 300 гр. колбасы. Я работала в легком цехе на станке, стоя выбивалиана картонном листе какие-то пластинки. И вот все вместе в штубе сложили стих, назывался он «Золотой четверг»:
Прихожу с работы, ложусь на кровать,
Слышу разговоры, хлеб будут давать,
Тут я соскочила и к окну бежать.
Хлеб я получила, начинаю жрать.
Сначала горбушку, а потом еще,
Девчонки смеются, ты пожрешь уж все.
Ничего, девчонки, раз нам помирать,
Ну, давай, девчата, хлеб будем кончать.
Дни идут за днями, хлеба давно нет.
Где же долгожданный Золотой четверг?
И так поедим за один вечер и ждем следующего четверга. Из одежды у меня из дома была латаная курточка и шерстяные носки, сама вязала, кофточка пошита из полотенца и юбка из матраца, покрашенная в черный цвет, и старые ботинки, которые в первую зиму порвались. Там нам выдали комбинезоны из плащевой ткани и деревянные колодки, сверху обтянутые белой парусиной, как шлепанцы. Носки стерлись, поштопать было нечем, и я ходила и летом, и зимой на босу ногу. Зимой было очень сыро, снега не было.
А есть очень хотелось. И мы по 4 человека поочередно ползком пролазили под поднятой ребятами-голландцами колючей проволокой. Возле лагерей был небольшой лесок, идем туда, покушаем ягод, а осенью таким же способом ходили на поле и собирали картофель по пахоте, но если хозяин увидит, то гонит, кричит: русиш швайн. Но не все были такие, бывало, проедет, как будто и не видит. Ходили по мусоркам, выбирали лушпайки с картошки. Возвращались в лагерь таким же путем. Комендантша ничего не замечала. Если приносили картофель, то варили на буржуйке ночью в котелке, который нашли на мусорке. Одни варили, другие сторожили возле окна, чтобы не застала комендантша.
Во вредном цехе работали и наши женщины. Некоторые из них тоже давали девчонкам и чулочки штопанные, и платья, и угощали бутербродами. Я была, наверное, невезучая, никто мне ничего не давал. А если кто заболеет туберкулезом, то изолировали от всех. В лесу стоял домик, и их туда отселяли, а там кто выживет.
Возле нашего лагеря был польский лагерь, также огорожен колючей проволокой, потом большой концлагерь, много там было военнопленных. Работали они возле печей и дорога, по которой они ходили, была ограждена проволокой, по которой шел ток. Каждое утро мы видели: кто за ночь умрет, их заворачивали в тонкую широкую стружку и обкручивали проволкой. И складывали на машину и куда-то увозили. Видели, как вели на работу, и кто не мог идти, вися у товарищей на плечах, а если кто нагнется, сорвет травинку и в рот, то их сильно били.
На другой стороне нашего ларегя жили голландцы, бельгийцы, французы, они не загорожены, ездили в отпуск домой, им высылали посылки из дома.
Платили нам копейки, за которые мы могли купить конверты и открытки. Из продуктов нам ничего не продавали. Да и писать домой было нельзя, так как наша область уже была освобождена. Работали мы 12 часов или 14 часов, не помню. И вот в мае месяце, числа не помню, 1945 г. в 4 часа утра в штубу к нам зашли американцы, но говорили по-русски. Они сказали, что война закончилась, и мы освобождены. Для нас это было неожиданностью. С вечера мы ничего не замечали, было так, как всегда. Такая это была радость. Мы все поднялись, обнимались, целовались, плакали. Даже не верилось, что теперь нас отправят домой. Думали, что никогда не увидим родных и помрем рабами.
Днем мы увидели, что немцы на ручных колясках везут продукты, и нам кто-то подсказал. Мы все кинулись туда. Это был военный склад, там были все продукты, и в одном зале под потолок было нашито военной формы, а в другом зале стояли швейные машины. Мы взяли продуктов, кто сколько мог унести, и пришли в лагерь. Комендантши на проходной уже не было. В штубе все продукты сложили вместе и самая пожилая женщина среди нас (из Киевской области), которая нас учила молитвам, нам выдавала продукты понемножку, чтобы не объелись после длинного голода. К нам пришел один парень из концлагеря и рассказал, что с вечера их всех выгнали из лагеря и где-то недалеко расстреливали. Он и еще три человека остались живы. Из них один Кано-поляк. Он сильно издевался над заключенными. И когда он пришел в лагерь, девчата с нашего лагеря за своего земляка, которого он бил в цехе и отливал водой, и снова бил, начали его бить. Еще он дышал, закопали его возле лагеря. Я и другие девчонки не могли смотреть на это.
Прожили мы в лагере месяц, может, и больше, немного пришли в себя после голода, и нас американцы начали отправлять машинами на сборочный пункт. Переправляли через реку Эльбу к нашим. Там нас отправляли кому куда надо. Женщин отправляли домой, мужчин — в армию.
Сколько было радости и слез, когда вернулись домой. Некоторые девчонки остановились у нас и стали разыскивать своих родных, которые были эвакуированы. Когда разыскали, уехали к родным. Власти на нас смотрели с презрением, как будто мы в чем-то виноваты. В сентябре я пошла в восьмой класс, окончила школу, поступила в техникум, но учиться не пришлось, я сильно заболела. На следующий год я пошла на курсы счетоводов.
С 1946 по 1947 гг. был голод, но не такой, как был в 1933 году. Хлеб давали по карточкам. Я работала счетоводом в аптеке в другом районе, там я вышла замуж, родила сына и дочку. Муж тоже прошел войну, работал в сельхозтехнике, умер в 44 года от инфаркта. Осталась я с детьми. Мне очень было тяжело. Я переехала к своим родителям. Работала статистиком в больнице. Похоронила маму, дети учились. Сын учился в Никополе в металлургическом техникуме. 6 месяцев работал в Минске на тракторном заводе, оттуда пошел в армию. Отслужил армию, пошел работать на ферросплавный завод в Никополе, где и погиб 3 августа 1977 года. Дочка окончила в Днепропетровске техникум автоматики и телемеханики, и по моей просьбе ее направили в Никополь на ферросплавный завод, где работает по настоящее время.
Мне завод выделил однокомнатную квартиру. Похоронила отца, доработала до пенсии и в 1983 году переехала в Никополь. Живу одна, имею два внука 17, 14 лет. Страдаю хроническим тромбофлебитом и полиартритом. На лекарства пенсии не хватает, только плачу за квартиру да на хлеб. Пенсия у меня маленькая, покупаю только необходимое, а стажу 38 лет. Вот такую я прожила жизнь. Думала, хоть на старости лет будет легче, но оказалось, что и старость такая страшная, как вся моя жизнь. От судьбы никуда не денешься.