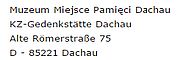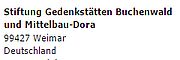Гелев Георгий Наумович
О том, что не могу забыть
Родился в 1916 году. Отец умер в 1921 г., и мама через некоторое время вторично вышла замуж за инженера-строителя Василия Ивановича Надеждина. В конце 1926 г. мама и отчим переехали в Харьков, а после окончания семилетки туда перебрался и я. Поступил в фабрично-заводское училище, потом на рабфак, потом в машиностроительный институт, который окончил в возрасте 23 лет в 1939 г.
Проработав после окончания института всего четыре месяца на харьковском заводе “Свет шахтера” инженером-конструктором, осенью 1939 г. я был призван в Красную Армию. В конце декабря прибыл в Томск, определен в 423-й стрелковый полк, т.е. в пехоту, и сразу же зачислен в полковую школу младших командиров.
Считалось, что воины Сибирского военного округа (СибВО) должны быть самыми закалёнными и выносливыми. При 40-50-градусном морозе по три-четыре недели мы жили в тайге в палатках, отапливаемых “буржуйками”, все занятия проводились на свежем воздухе, часто устраивались лыжные переходы на 200 км и лыжные гонки, а летом — соревнования по плаванию, легкой атлетике, гимнастике. Думаю, что если бы не физическая подготовка и спортивный характер, который вырабатывается у спортсменов, я вряд ли остался в живых осенью и зимой 1941-42 гг.
Утром 24 июня я вернулся в свой полк в Томск. Мы были собраны в отдельную команду для отправки в Кемеровское пехотное училище средних командиров. Узнав об этом, я приуныл. Был уверен, что пока окончу училище, закончится война, а меня потом, как лейтенанта, могут надолго задержать в армии. Поэтому решил добиваться отправки на фронт. В этот же день, 24 июня, в должности ПНШ-2 (помощника начальника штаба по разведке) я прибыл на вокзал. Нас погрузили в вагоны и отправили состав в западном направлении. К октябрю из 42 средних командиров 3-го батальона, выехавших со мной из Томска, в строю осталось только трое, а в октябре 1941 г. наша 166-я дивизия, входившая в состав 19-й армии, попала в окружение под Вязьмой и перестала существовать.
Плен
10 октября я последний раз участвовал в бою. Меня ранило в ногу из пулемета. Кость не задело, но рана была очень глубокой, на выходе длиной сантиметров пятнадцать. Санитары помогли мне добраться до санчасти, и я с трудом мог передвигаться с помощью подобия костыля, который мне сделали из ветки. А 11 октября я вместе со многими другими красноармейцами попал в плен. Пленных строили в колонны и вместе с санитарными повозками с ранеными по лесной дороге под охраной отправляли в западном направлении. Вечером мы оказались в селе, расположенном в лесу. Нас не кормили, разрешили только ездовым напоить лошадей из колодца. Моросил дождь, и я укрылся от него, прижавшись к стене сарая и опираясь на костыль. Вдруг кто-то дернул меня за рукав. Я обернулся и увидел немецкого солдата. Он, озираясь по сторонам, протягивал мне котелок и кусок хлеба.
— Ess, nur scnheller (Кушай, только побыстрее), — сказал он и скрылся за углом сарая.
В котелке был еще теплый суп и ложка. Как только я опорожнил котелок, снова появился солдат, взял котелок и, улыбаясь, спросил:
— Schmackt gut? (Вкусно?).
— Sehr schmackt, danke. (Очень вкусно, спасибо), — ответил я. Солдат, оглядываясь, скрылся.
Утром колонны пленных двинулись дальше. Сначала по лесным дорогам, затем — по автостраде Москва-Минск. По бокам каждой колонны численностью не менее пятисот человек с интервалом 15-20 метров шли немецкие автоматчики. Пленных не кормили, но у нас были еще остатки сухого пайка, который мы успели получить до того, как попали в плен. Нас вели к Ярцево. По пути колонна остановилась на краю какой-то деревушки на отдых. В деревушке несколько немецких солдат грузили на армейскую телегу ящики. Увидев санитарные повозки, два солдата подошли и приказали всем слезть. Оставшихся на повозках тяжелораненых они тут же застрелили, велели ездовым снять трупы, тем, кто держался на ногах, присоединиться к колонне, а повозки забрали. Колонна тронулась. Метрах в пятнадцати от дороги был небольшой домик, на его пороге стоял пожилой немецкий офицер с пистолетом в руке. Он наблюдал за ранеными, идущими к шоссе. Раненым, которые, по его мнению, плохо перемещались, он стрелял в затылок. Когда мы приблизились к нему, я сказал:
— Wir konnen gehen. (Мы можем ходить). Он ничего не ответил, а через несколько минут раздался выстрел. Хромающий рядом со мной солдат упал на землю. Опираясь на костыль, я изо всех сил старался не хромать, и думал, что опасность миновала. Но когда до шоссе оставалось метров пять, раздался выстрел, и я ощутил, что меня будто кто-то дернул за воротник между плечом и шеей. Мгновенно сообразил, что немец стрелял в меня, целясь в затылок, но, к счастью, не совсем точно, и, дабы он не повторил выстрел, упал и притворился убитым. Наша колонна ушла, а я лежал, не двигаясь, так как слышал разговор немцев неподалеку. Примерно через час к деревушке подошла другая колонна пленных и расположилась на отдых. Я встал и подошел к колонне. За моими перемещениями наблюдал лейтенант, опирающийся, как и я, на самодельный костыль.
— Коллега, ты чего разлегся у самой дороги? — спросил он у меня.
— Долго рассказывать, давай лучше отойдем подальше от этого места, — ответил я.
Моего нового знакомого звали Алексей Волков, у него тоже было ранение ноги. Алексей объяснил мне, что не все бойцы с ранениями ног выдерживают темп колонны и постепенно отстают. Тех, кто отстал, расстреливают. Поэтому он во время отдыха передвигается в голову колонны.
Вскоре колонна двинулась в путь. Как и предупреждал Леша, мы постепенно начали отставать. От длительной ходьбы начала болеть нога. Но трупы на обочинах дороги и выстрелы в конце колонны заставляли двигаться быстрее, преодолевая боль. Первую остановку колонна сделала через час.
— Смотри, до нашей смерти осталось примерно двадцать метров, — сказал Леша, указывая на конец колонны. — Давай пробираться опять вперед.
К счастью, это была предпоследняя наша “перебежка”. Скоро мы добрались до лагеря военнопленных на окраине Ярцево.
Участок поля площадью несколько гектаров у самой автострады огородили колючей проволокой. Внутри изгороди — несколько построек складского типа, по краям — вышки с пулеметами. Пленные располагались посреди поля, укрываясь в наспех вырытых ямах. Вечером нас покормили чечевичной баландой и выдали по одной брюкве. Из этого полевого лагеря пленных на попутных машинах отправляли в другие лагеря. Лешу и меня направили в лагерь под Смоленском. Семнадцать пленных разместились в кузове машины. Командовал нами унтер-офицер. Когда он на некоторое время отлучился, немец-шофер достал из-под сидения три буханки хлеба и протянул нам.
Смоленский лагерь, куда мы прибыли вечером, как и ярцевский, был пересыльным. На следующий день утром нас накормили баландой с кусочком хлеба и отправили на вокзал. Там погрузили в полувагоны и повезли на запад. Трудно сказать, сколько человек было в каждом полувагоне, но одновременно сидеть все не могли, и многие стояли. В пути нас не кормили, не поили. Чтобы оправляться, в деревянном полу сделали пару отверстий, выломав доски с помощью ножей. Особенно трудно было тем, кто не мог все время стоять. Леше и мне повезло, удалось устроиться недалеко от дырки в полу, там можно было присесть. К концу дня эшелон прибыл в Минск и впервые сделал кратковременную остановку. Наш вагон находился метрах в двадцати от водопроводной колонки. Это было мучительно — видеть рядом воду и не иметь возможности напиться. Не выдержав, один из пленных выскочил из полувагона и побежал с двумя котелками к колонке, но тут же был убит.
Утром следующего дня мы прибыли в Вильнюс, а в полдень — в небольшой литовский город Алитус, где находился большой стационарный лагерь военнопленных.
Мы с Лешей попали в барак для среднего комсостава — конюшню, где на цементном полу, покрытом соломой, с печкой-”буржуйкой” посередине, разместились около четырехсот человек. Приближалась зима, в бараке было холодно. Немцы выдали пилы и топоры и разрешили рубить дрова за пределами лагеря. Этой работой в сопровождении охраны занимались наиболее здоровые. Когда начали топить “буржуйку”, стало теплее, но не намного. Питание было очень скудным: ежедневно буханка позеленевшего внутри хлеба на шестерых, каждому — котелок травяного чая утром, днем — большой черпак баланды, вечером — снова травяной чай. Баланда состояла из воды и едва промытых и неочищенных овощей: капусты, картошки, брюквы. Котлы плохо мылись, и от баланды шел неприятный запах, но голодные пленные проглатывали свои порции мгновенно. Из-за голода, холода, ран и болезней смертность среди пленных увеличилась. Мы с Лешей тоже начали терять силы. Спасло нас то, что у начальника лагерной полиции сломались часы, и он искал среди пленных часовщика. Леша до армии работал часовым мастером. За успешный ремонт часов ему подарили две буханки хлеба и определили на кухню чистить картошку. За свою работу чистильщики получали дополнительно котелок баланды и могли уносить в барак картофельные очистки. Леша нашел где-то в мусоре старую терку. Мы натирали на ней очистки и запекали на буржуйке.
В лагерном госпитале
Пленных заедали вши, начался сыпной тиф. В конце ноября заболел и я, и меня определили в тифозный барак лагерного госпиталя. В госпитале больные лежали на голых металлических сетках кроватей, матрацев и других постельных принадлежностей не было. Тиф я перенес сравнительно легко, хотя и не получал никаких лекарств, очевидно благодаря сделанной в армии прививке. Но организм ослабел, и меня мучил голод, а связи с Лешей не было. Лагерный госпиталь обслуживали советские врачи, тоже военнопленные. Однажды утром в бараке появилась женщина-врач. Это была Лидия Петровна (фамилию не помню), спортсменка из лыжной команды СибВО, с которой я вместе участвовал во всеармейских соревнованиях в Москве. Она тоже узнала меня и со следующего дня приносила сама или передавала через других врачей густую баланду (врачей кормили лучше), а иногда и кусок хлеба. В начале января Лидия Петровна пришла в комнату, где я лежал, и кроме баланды и хлеба дала каждому по кусочку сала, которое удалось раздобыть у местного населения.
Меня собирались уже вернуть в офицерский барак, но начался голодный понос. Я очень быстро терял силы. Лекарств не было. Спас меня Леша, которого по моей просьбе отыскала Лидия Петровна. По совету одного старика из нашего барака он раздобыл на полицейской кухне кости, пережег их на барачной “буржуйке” и истер в порошок. Я стал принимать регулярно этот порошок, питаясь только сухарями и кипяченой водой. Их мне каждый день приносил Леша, выменивая хлеб на мою порцию баланды. Через несколько дней понос прошел, и снова начало мучить чувство голода. Лидия Петровна сама заболела тифом, и помочь не могла.
Я и мои соседи по палате мечтали о еде во сне и наяву.
На улице летали голуби и часто садились на наш подоконник, заглядывая в окно.
Молоденький солдат Витя из брезентового ремня надергал нити, сплел веревки, сделал петли и разложил на подоконнике. В качестве приманки положил несколько крошек хлеба из своего скудного пайка. Но голуби склевывали крошки и улетали. И все же как-то утром в петлю попал голубь. Голубь с трудом держал голову, крылья его обвисли, видно попытки вырваться из петли отобрали у него последние силы.
— Э, брат, так ты ведь тоже доходяга, как и мы. Тебя убивать жалко, попробую тебя подкормить, — сказал Витя, осмотрев птицу.
Все согласились с ним. Мы решили не съедать голубя и начали подкармливать его, делясь с ним крошками хлеба. Голубь очень привязался к Вите. Он жил на его койке и грелся, прижавшись к нему. Витя очень страдал от болей в животе, состояние его ухудшалось, и в один из вечеров он умер. Утром по баракам и госпитальным палатам собирали тела тех, кто умер в течение суток. Когда пришли к нам, обнаружили лежащего на полу мертвого голубя. Птицу положили Вите на грудь и унесли их обоих.
У меня начали опухать от голода ноги, появились отеки на лице. От длительного лежания на металлической сетке на спине продавились ее отпечатки. И Леша принес печальные новости. Он вступил в пререкания с лагерным полицейским, избившим работника кухни, за что был избит и изгнан из числа чернорабочих. Мы лишились дополнительного питания.
У литовских крестьян
Не знаю, что было бы со мной, если бы в мою судьбу снова не вмешалась Лидия Петровна. Она очень легко перенесла тиф, вероятно, тоже благодаря армейской прививке, и, выздоровев, сразу же навестила меня. Увидев, как я распух, сказала:
— Нужно вас спасать. Попробую включить вас в число тех, кого направляют к крестьянам.
Попасть к крестьянам было мечтой всех пленных, но больных — несбыточной. Я попросил Лидию Петровну позаботиться и о Леше. Вечером она привела его ко мне и дала задание привести себя за ночь в порядок. Ножницы мы взяли у Лидии Петровны, а бритва у нас была своя. Утром следующего дня Лидия Петровна привела нас, постриженных и выбритых, в лагерную канцелярию, где проходила передача пленных крестьянам. В помещение заводили десять очередных пленных и выстраивали в одну шеренгу. Литовцы по очереди заходили и выбирали себе работника, стараясь выбрать наиболее здорового и сильного. Мы с Лешей стояли рядом, втянув животы, чтобы казаться стройными и здоровыми. Никто из присутствовавших крестьян не взял больше одного работника, и нам с Лешей пришлось расстаться. Ко мне подошла небольшого роста литовка лет пятидесяти, улыбаясь, взяла меня за руку и подвела к столу, где оформляли документы. При этом она сунула оформителю солидный сверток. Мы вышли за пределы лагеря. Мне не верилось, что я иду без сопровождения автоматчика.
Так в начале марта 1942 г. я попал в работники к Доминикасу Маславскасу и его жене Аготе. А из лагеря меня забрала сестра Аготы Юлия. Доминикас, Агота и их дети Янина, Юлия, Пятрас, Она и Бронис жили на хуторе Мецюны. Но так как их дом в начале войны сгорел от попавшего в него снаряда, они временно поселились в лесничестве вместе с семьей лесника. В семье Маславскасов никто не знал русского языка, а в семье лесника все довольно хорошо говорили на русском, и это мне очень помогло, пока я сам не научился немного говорить и понимать по-литовски. По прибытии в дом лесника первым делом решили меня вымыть и постирать мою одежду. Во время мытья выяснилось, что я не упитанный, как это казалось с первого взгляда, а опухший от голода. Узнав об этом, хозяева мои сказали, что ни о какой работе не может быть и речи, пока я не окрепну. Агота даже всплакнула и приготовила мне яичницу с салом и другую жирную еду. Я помнил, что было со мной после куска сала, и уже знал, что после длительного голодания человек может даже погибнуть, если переест. Через “переводчиков” мне удалось объяснить хозяевам, что недели две мне можно есть только постную пищу. Ходил я медленно, пошатываясь, голова кружилась, но день за днем чувствовал себя лучше и лучше. Хозяева относились ко мне не как к работнику, а как к своему сыну. Все Маславскасы, кроме маленького Брониса, были заняты какой-нибудь работой. Мне не поручали никакой работы, только кормили и всячески обо мне заботились, но я чувствовал себя нахлебником, и меня мучила совесть. Поэтому я помогал их младшей дочери школьнице Оне в изучении математики и рисования, а она обучала меня литовскому языку. Потом начал носить воду из колодца, рубить дрова, постепенно втягиваясь в работу.
Я уже многое понимал по-литовски, мог сам говорить, и из Георгия превратился в Юргиса. Хорошие отношения сложились у меня с лесником. Он часто по вечерам приглашал меня к себе. Как-то в середине апреля у лесника собралась компания пожилых литовцев. Я и военнопленный Петр, работник лесника, проходили мимо веранды, где сидели хозяин и гости, и нас тоже позвали в компанию. Усадили за стол и начали расспрашивать о жизни при советской власти. Мы рассказывали, стараясь обходить отрицательные факты, было стыдно и обидно представлять свою страну в неприглядном виде. Я спросил у одного из гостей, пожилого крестьянина:
— Господин Мергялис, скажите, пожалуйста, почему литовские крестьяне так хорошо относятся к нам, советским военнопленным? И ксендз в костеле призывает прихожан помогать военнопленным.
— А потому, Юргис, что русский — наш брат. Когда-то, еще при царе Николае у меня было много русских друзей, с которыми я вместе служил в армии. Ваши политруки и комиссары пришли к нам и многих безвинных тружеников сослали в Сибирь. Но в том, что они сделали, ваш народ не виноват. И Бог у нас один, что у русских, что у немцев, что у литовцев.
После Пасхи приступили к полевым работам. Окончив семилетку, я год работал в колхозе у себя на родине в Богуславе. Умел ухаживать за лошадьми, пахать, сеять, бороновать, косить. Поэтому значительную долю работы взял на себя. Хозяева мои были очень довольны и старались кормить меня получше. После сева приступили к строительству дома взамен сгоревшего. Но тут пришли тревожные новости: пленных стали возвращать в лагерь. Мы с другими работниками-пленными решили бежать, но я не хотел этого делать, не поставив в известность хозяев, чтобы их не подвести. Моих знаний литовского было недостаточно для серьезного разговора, и я попросил старика Мергялиса быть переводчиком. Мергялис считал, что бежать опасно. Нужно пройти через большую территорию, занятую немцами, а в каждой деревне есть полицейские, и они могут нас выдать. Мой хозяин Доминикас предложил спрятаться у него и жить тайно, сколько потребуется. Но я и еще трое пленных, работавших на соседних хуторах, решили все же бежать и пробираться через линию фронта к своим. В дорогу меня собирали хозяева, готовили еду и самые необходимые для походной жизни предметы. Но бежать нам не удалось. За три дня до намеченного побега утром во двор Маславскасов въехала повозка с двумя литовскими полицейскими. Они приказали хозяевам отвезти меня в лагерь. Агота и Она заплакали, а Доминикас молча пошел запрягать лошадей в повозку. Меня увезли из ставшего мне родным семейства. Всю свою жизнь Агота говорила, что у нее не пять, а шесть детей, шестой ребенок — я, Юргис. Мы встретились снова только через четырнадцать лет. Много лет после войны у меня не было возможности поехать в отпуск, мы с женой свои отпуска “продавали”, так как начинали семейную жизнь на голом месте, и нужны были деньги на одежду, мебель, еду, а пока были живы мои бабушка и мама, мы еще и им помогали. Впервые мы использовали отпуска для отдыха только в 1954 г. А летом 1956 г. я с женой и дочерью поехал в Литву. Разыскал хутор Мецюны. Вышел из машины и пошел к дому, не зная, кого там найду. В дверях появилась женщина, с удивлением вглядываясь в приближающегося человека. Вдруг она всплеснула руками и вскрикнула: “Юргис!?”. Это была старшая дочь Маславскасов Янина. С тех пор мы поддерживали дружеские отношения семьями, ездили друг к другу в гости, переписывались и считали, что мы не просто знакомые, а родня.
Но это было потом, а тогда, в июле 1942 г. я снова оказался за колючей проволокой.
На шахте “Карл Александер”
Примерно дней через десять нам приказали взять вещи, построили, пересчитали и привели на вокзал. Там уже стоял состав из крытых вагонов. Нас выстроили по сорок человек перед каждым вагоном, приказали раздеться и сложить одежду. Мы остались в кальсонах и нательных рубашках. Снятую одежду погрузили в машины и увезли, а взамен начали выдавать новую, сбрасывая у каждого вагона по числу людей. Комплект состоял из куртки, брюк и нательного белья. Одежда была трофейная, захваченная у поляков, французов, венгров. Наш вагон был предпоследним, одежды на всех не хватило, а время отправления состава уже подошло. Нас загнали в вагоны в нижнем белье, и поезд тронулся. Мы проехали Варшаву, Берлин и прибыли в Нейбрандербург. Пленных выстроили в колонну на привокзальной площади и под охраной автоматчиков повели за город. Вид полураздетых людей был ужасен. Женщины плевали нам вслед и отворачивались, а мальчишки швыряли в нас всем, что было под руками. Конвоиры говорили прохожим: “Вот она, Красная Армия, смотрите”. Когда сейчас по телевизору иногда показывают, как через Москву вели пленных немецких солдат, а за ними ехали поливальные машины и мыли улицы, я вспоминаю наш “марш” через Нейбрандербург.
Огромный лагерь находился на окраине города. Военнопленные из разных стран были отделены друг от друга высоким проволочным забором. После санобработки, наконец, выдали одежду. Мне досталась польская шинель, венгерская куртка, советские комсоставовские гимнастерка и брюки, французская фуражка и деревянные колодки вместо обуви. На спине, груди и коленях брюк белой краской были сделаны надписи “SU” (Советский Союз).
Все, кроме советских военнопленных, ежемесячно получали увесистые посылки от Международного Красного Креста, а некоторые — еще и из дома. Поэтому чувствовали себя неплохо и даже играли в волейбол. Наше питание было очень скромным, но значительно лучшим, чем в 1941 г. Советские пленные в этом лагере не задерживались, их отправляли небольшими партиями на различные работы. Дошла очередь и до меня. Я простился с Алешей Волковым, на этот раз навсегда, и был доставлен в поселок Баэсвайлер, в котором находилась шахта “Карл Александер”. Это было огромное предприятие, где кроме шахты работала обогатительная фабрика, коксовые печи и производство бензола. На территории шахты, огражденной высоким забором, стояли бараки, огражденные дополнительно. В них содержались около восьмисот советских военнопленных.
Был конец августа 1942 г. Мне присвоили номер 715 и распределили на работу в шахту забойщиком. Подъем в половине шестого, перекличка, завтрак и отправка под конвоем к шахтному стволу. Забойщикам приходилось работать полулежа. Норму установили — семь погонных метров забоя в смену. Если забойщик к концу смены не успевал вырубить норму, должен был работать, пока не выполнит. Поэтому мы поднимались “нагора” только часов в семь вечера и длительное время не видели солнца. Вечером после ужина и обязательной переклички мы валились на койки и мгновенно засыпали. В воскресенье — выходной. Кроме еды все мы получали ежемесячно по семь немецких марок, но на них была надпись: “Только для русских военнопленных”. На эти деньги можно было приобрести нитки, пуговицы, лимонад, которые периодически продавались в лагере, но не более.
От работы в полусогнутом состоянии начала болеть и опухать раненая нога, работать под землей мне стало тяжело. Выручил земляк из Харькова, тоже пленный. Он работал на шахте слесарем, и мастер его очень ценил. Василий сказал мастеру ремонтного цеха, что в лагере есть хороший слесарь. Слесарей не хватало, и меня забрали в цех. В фабрично-заводском училище при Харьковском электромеханическом заводе (ХЭМЗ), где я учился до поступления в институт, обучали очень хорошо, и я действительно владел несколькими рабочими специальностями.
Меня перевели в ремонтный цех и определили подручным к слесарю Францу Шонджену, спокойному доброму человеку лет сорока. Он делился со мной своим обедом, но серьезной работы не давал. Однажды Францу поручили изготовить колено крупного шахтного воздухопровода. Шаблон, по которому делали выкройку, был утерян. Франц дважды делал новую выкройку по своему соображению, но неверно. Найдя большой кусок картона, я при помощи линейки и большого циркуля сделал выкройку и, дал ее Францу. Франц взял мою выкройку и, убедившись, что она правильная, сказал:
— .Точно! Как ты это сделал? Научи меня.
После этого он общался со мной, как с равным. Узнав, что с Францем работает “умный русский”, ко мне начали обращаться за помощью молодые рабочие, которые учились в вечерних технических школах типа наших рабфаков. Я помогал им решать задачи по сопромату и технической механике. Остальные слесари и токари из числа пленных тоже не уступали немцам по квалификации.
Однажды утром, когда охранники привели нас из лагеря в цех, я увидел стоящего у верстака задумчивого и грустного Франца.
— Над чем задумался? — спросил я.
— Да вот, повсюду пропаганда и вранье. Нам все время толкуют, что русские — дураки, неполноценные. А я работаю с тобой уже почти два месяца и не вижу, чем ты хуже меня и других наших рабочих. Почему мы должны стрелять друг в друга?
Чем дольше работали вместе военнопленные и немцы, тем больше последние начинали понимать, что мы — такие же люди, как и они. Соответственно изменялись и взаимоотношения. В цехе был сварщик Гарри Вахтер. Он особенно сочувствовал военнопленным. Ежедневно Гарри приносил из дома бутерброд и поочередно отдавал его кому-нибудь из нас.
Наступил 1943 г. Однажды в начале февраля нас привели на работу, но в цехе шел траурный митинг в связи с разгромом армии Паулюса под Сталинградом. Выступал представитель нацистской партии. Он призвал немцев сплотиться для победы, обещал, что скоро появится новое оружие возмездия, и сообщил, что армия должна пополняться новыми солдатами, и пусть никто не удивляется, если на шахту придут работать немецкие женщины. Последнее сообщение вызвало недовольство рабочих. Услышав довольно громкий ропот, докладчик сказал:
— Вы возмущены тем, что наших женщин призывают на производство, чтобы помочь родине в трудную минуту. Я был на фронте, и у меня есть сведения, как помогают своей родине русские женщины. Они безропотно роют противотанковые рвы, работаю на шахтах, заводах и полях. Вот с кого следует брать пример.
Примерно в середине апреля сержантский состав лагеря зарегистрировали и сказали, что повезут в соседний лагерь. Я тоже попал в число тех, кого зарегистрировали. В большом лагере возле бельгийской границы собрали несколько сотен военнопленных с разных предприятий. Нас сразу же повели в столовую и сказали, что есть можно, сколько влезет. Обед из трех блюд был очень вкусным, и мы с жадностью набросились на еду. После обеда нас привели в большой зал, где за столом сидел немецкий полковник и люди в гражданской одежде. Один из гражданских открыл собрание и сообщил, что он — бывший майор Красной Армии, добровольно сдавшийся в плен. А сдался он потому, что не намерен защищать власть большевиков. Таких, как он, много, и они решили бороться за свободную Россию — без большевиков. Возглавит эту борьбу бывший советский генерал Власов, также добровольно сдавшийся в плен. Немцы помогут и дадут оружие. После вступительной речи майор предложил всем желающим бороться за свободную Россию подойти к столу и записаться. После длительной паузы подошел один из пленных. Записалось еще несколько человек, потом наступила пауза.
— Пусть они пойдут еще поедят и подумают, — сказал полковник.
Мы пошли в столовую, но есть уже не хотелось. Появились агитаторы, одетые в форму Русской освободительной армии (РОА). Они рассказывали о том, какая у солдат этой армии хорошая жизнь. После перерыва в РОА записались еще несколько человек. Немецкий полковник был очень недоволен такими результатами, а нас поздно вечером вернули в шахтный лагерь. Через какое-то время мы с товарищами решили бежать.
Побег
Я очень доверял Гарри Вахтеру, с которым подружился, и решил посоветоваться с ним.
Гарри, выслушав меня, сказал, что вполне нас понимает, но затея очень опасная. Чтобы нам добраться до своих, нужно пройти всю Германию и еще несколько стран, и вряд ли это возможно. А вот стать остарбайтерами вполне реально. Товарищ Гарри рассказывал ему о случаях, когда военнопленные бежали из лагерей и “прибивались” к остарбайтерам, но гарантии, что у нас это получится, не было. Гарри пообещал оказать нам посильную помощь в подготовке к побегу. Мы втайне изготовили котелки, ножи и другие, нужные в дороге вещи, насушили сухарей, на обувь вместо деревянных подошв пришили подошвы из кусков транспортерной ленты. Гарри принес подробную карту, компас, несколько стареньких штопаных рубашек и несколько кусков непромокаемой ткани типа дерматина. Все вещи мы прятали на дровяном складе.
В конце мая на шахту прибыли 30 новых пленных, и чтобы освободить для них место в бараке, нас перевели в пустой гараж, примыкавший к ограде лагеря. Так что при побеге нужно было преодолеть на одну ограду меньше. Но дверь гаража выходила во двор шахты, и на ночь нас запирали, а ключ хранился в помещении, где жила лагерная охрана. Одному из нас удалось пробраться в помещение охраны и сделать отпечаток ключа на кусочке мыла, и мы изготовили дубликат. Кроме того, нам пришлось похитить из цеховой кладовки синие спецовочные комбинезоны, так как бежать в клейменой одежде было бессмысленно, любой бы сразу понял, что мы беглые советские военнопленные. Комбинезонов в кладовке было очень много, и пропажу никто не заметил.
Бежать решили в ночь на 22 июня, через два года после начала войны. Бараки, огороженные забором, и стоящий рядом гараж ночью охранялись часовым, который непрерывно патрулировал эту территорию. Мимо дверей гаража он проходил каждые 8-10 минут. Мы должны были уложиться в 8 минут, пока дверь гараж скрыта от часового.
Была моя очередь работать в ночную смену, и таким образом я оказался вне гаража. Во время последней дневной смены я попрощался с Гарри Вахтером. На прощанье он дал мне зажигалку, несколько коробок спичек и торбочку с солью. После того, как мимо шахты прошел ежедневный одиннадцатичасовый поезд, я, как было условленно, дождался, когда часовой прошел мимо двери гаража и скрылся за углом, и подал сигнал зажженной спичкой. Дверь гаража открылась, и из нее вышли трое. Мы переоделись на дровяном складе, спрятали под дровами лагерную одежду, взяли свои припасы, перелезли через ограду шахты и устремились на восток.
По совету Гарри, на случай, если нас задержат, мы решили выдать себя за остарбайтеров и назваться другими именами. Так я стал Сергеем Царенко, взяв себе имя и фамилию своего богуславского товарища детства.
В лагере уже были две неудавшиеся попытки побега. Беглецы отходили от лагеря на 5-6- километров и днем останавливались на отдых. Их ловили, избивали и отправляли в концентрационный лагерь. Поэтому мы решили в первую ночь уйти от лагеря не меньше, чем на двадцать километров и остановиться на дневной отдых в безлюдном месте. Как вести себя в пути, нам подсказал Гарри. Германия — не Россия и не Украина, где расстояния от селения до селения огромны. В Германии они редко превышают пять километров. Кроме того, все луга, где пасется скот, разгорожены проволокой на небольшие участки. Быстро перемещаться можно только по дорогам между селениями, а если идти в обход, то придется все время перелезать через проволочные ограждения. Тем не менее, в первую ночь мы отошли от лагеря не менее чем на двадцать километров. Как только начало светать, остановились на отдых посреди пшеничного поля и сразу уснули. Проснулись в полдень, подкрепились сухарями и огурцами, сорванными по дороге, и снова улеглись, ожидая темноты.
Мы старались обходить попадающиеся на пути поселки, но однажды ночью рискнули пройти через маленькое селение и увидели у забора одного из дворов стоящие на улице бидоны. В них было молоко — немецкие фермеры выставляли бидоны за ворота, а по утрам их увозила машина молокозавода. Сухари наши закончились, другой еды не было, поэтому нам пришлось заходить иногда в селения и отливать понемногу молоко из бидонов, а также собирать на огородах морковь, картофель, огурцы, а на полях — колоски.
Примерно на двадцатый день нашего путешествия мы остановились на дневку в лесу. Неожиданно увидели на тропинке парня и девушку метрах в трех от нас. Вдруг я услышал, как парень спрашивает девушку:
— Галю, то ти завтра прийдеш?
Услышав украинскую речь, я так обрадовался, что выскочил из кустов, позабыв о всякой осторожности, и очень напугал своих земляков. С трудом нам удалось их успокоить и убедить, что мы не причиним им никакого зла. Оказалось, что парень и девушка — остарбайтеры, работают на кирпичном заводе, а живут в бараках неподалеку. В Германии они недавно и подробностей о жизни остарбайтеров знают мало. Галя предложила привести бригадира, который в Германии давно. Сказала, что он свой человек и нас не выдаст. Минут через двадцать она вернулась, с ней был парень лет двадцати пяти. Он рассказал нам о жизни, правах и обязанностях остарбайтеров в Германии. Перед тем, как мы расстались, наши новые знакомые принесли из барака кусочки материи, на которых белыми буквами на синем фоне было написано “OST”, чтобы мы пришили их на свою одежду.
Чем ближе мы подходили к Рейну, тем чаще встречались населенные пункты, их приходилось обходить. Мы приближались к промышленной зоне, которая усиленно охранялась, и продвигаться становилось все труднее. На тридцатый день после побега мы решили переждать день в пшеничном поле, возле ручейка. Подкрепившись овощами, уснули, и были разбужены яростным лаем маленькой собачонки, стоявшей над нами. Когда мы поднялись, она залаяла еще яростнее, а со стороны ручья появилось несколько мальчишек. Увидев нас, они закричали и побежали в сторону поселка. Мы схватили свои вещи и бросились убегать вдоль ручья. Вскоре, оглянувшись, увидели, что за нами бежит много людей. Раздавались крики “Halt!” (Стой!) и выстрелы. Чтобы нас не застрелили, решили остановиться. Окружая нас, немцы медленно приближались. Их было не меньше пятидесяти, в том числе полицейский и два солдата. Несколько бауэров вооружились охотничьими ружьями. Как потом я понял из их разговоров, из-за одинаковых комбинезонов немцы издали приняли нас за экипаж сбитого американского самолета.
Но мы договорились притворяться, что совсем не понимаем немецкий язык. Тогда ко мне подошел бойкий немец и, ткнув себя пальцем в грудь, сказал, что он немец. Потом ткнул пальцем в меня и начал перечислять национальности: англичанин, француз, русский… Когда он дошел до украинца, я радостно воскликнул:
— Да, Украина!
Таким же образом установили, что двое из нас украинцы, а двое русские.
Нас привели в поселковую полицию и заперли в сарайчике. Через некоторое время к сарайчику подошел парень и на украинском языке сказал:
— Хлопці, після обіду вас будуть допитувати, а я буду перекладачем. Не бійтеся, якщо щось наплутаєте, я перекладу так, як треба.
Меня вызвали на допрос первым. Я придерживался придуманной нами легенды:
— Дома, в оккупации, мы жили не богато. А нам все время рассказывали, что те, кто уехал в Германию, хорошо там живут и хорошо зарабатывают, имея специальность. Я квалифицированный слесарь, решил добровольно уехать в Германию. Но здесь меня использовали, как чернорабочего при ремонте железнодорожных путей. Жили мы в очень плохих условиях и поэтому решили уйти домой.
— А знаешь ли ты, что до твоего дома около трех тысяч километров? Думали ли вы о том, что будет, когда вас поймают?
Я выразил удивление таким большим расстоянием до Украины и сказал, что мы надеялись, если нас и поймают, то отправят работать по специальности.
После допроса нас снова заперли в сарайчике, а потом объявили, что утром отвезут в Эускирхен на биржу труда. На следующий день нас сдали на биржу труда, а через несколько часов за нами на машине приехал немец. Он привез нас в небольшую деревню Фуссем, состоявшую из нескольких десяков домов. В Фуссеме была церковь, женский монастырь и фабрика сверлильных станков фирмы “Петер Гирардс”, куда мы и были направлены. Но в Фуссеме оказались только Борис, Петр и я, а Александра, который совсем не знал слесарного дела, направили куда-то в другое место.
Среди остарбайтеров в Фуссеме
Разместили нас в деревянном бараке рядом с фабрикой и выдали постельные принадлежности: тюфяк с подушкой, простыни и одеяло с пододеяльником. В бараке, кроме нас, размещалось еще шестнадцать человек — один 45-летний инженер строитель и пятнадцать юношей из Харькова, Ростова и Донбасса в возрасте от 16 до 20 лет. Шефствовал над нами пожилой немец Йоган. Ночью он нас охранял, а днем появлялся периодически для решения бытовых вопросов. Рабочий день длился двенадцать часов, с семи утра до семи вечера. В субботу работали до двенадцати, а в воскресенье отдыхали. Еду для нас готовила повариха-немка, но для нас ее было маловато. Хорошо, что вокруг монастыря, завода и вдоль дорог росло много фруктовых деревьев, и недостаток в еде мы пополняли фруктами. В пределах деревни остарбайтеры могли перемещаться свободно, но чтобы посетить ближайший город, расположенный примерно в ста километрах, нужно было брать разрешение в полиции. В ближайшие поселки ходили с разрешения нашего охранника Йогана. Так как в Фуссеме полиции не было, нас опекали двое полицейских из Мехерниха. Они поочередно приезжали на велосипедах и контролировали нашу деятельность. Один из них, старик лет шестидесяти, беседовал, спрявлялся о здоровье, расспрашивал о жизни и уезжал. А второй, сорокалетний, постоянно читал нотации и сообщал, какие нас ждут наказания в случае нарушения правил поведения. Нас он предупредил, что если мы вздумаем еще раз бежать, то будем пойманы и отправлены в концлагерь.
После выполнения пробных заданий нам присвоили первые разряды. В Германии у слесарей их было тогда три, первый — самый высокий. Но мы недолго прожили в Фуссеме втроем. Еще во время побега Петр поранил ногу, в Фуссеме он попал в больницу, ему сделали операцию, но спасти не смогли. Петр умер, похоронили его здесь же на местном кладбище. Через некоторое время мы узнали через других остарбайтеров, что недалеко от нас в Мюнстерайфеле появился новый остарбайтер, по описанию похожий на нашего Александра Нефедова. В выходной мы отправились с Борисом в Мюнстерайфель, зашли в барак. Один из остарбайтеров сидел к нам спиной и брился. это действительно был наш Саша.
Каждую пятницу мастер цеха приносил к нашему рабочему месту аванс, а в конце месяца производился полный расчет. Чистыми деньгами я получал 70 марок в месяц. Марки были настоящие, но купить на них без карточек еду или одежду было невозможно. Наша же одежда сильно износилась, кроме того приближались холода. Через девушек-остарбайтеров, работавших в монастыре, мы узнали, что там живут немцы-беженцы. Они находились на полном государственном обеспечении и часто, чтобы иметь деньги, продавали свою одежду. Мы купили у беженцев костюмы и пальто. Белья у нас не было, но, вспомнив опыт жизни на шахте, среди обтирочных материалов, которые привозили на фабрику, мы нашли трусы, манишки и даже цилиндр, правда, помятый. Так что мы даже сфотографировались на память в новых костюмах, в цилиндре и с трубкой.
В конце августа нам с Борисом выдали аусвайсы с нашими фотографиями и отпечатками пальцев. Там были указаны фамилии, имена, которыми мы назвались, когда нас поймали, год рождения, национальность и место работы. Мы снова отправились в гости к Саше и после обеда пошли в лесок поговорить без посторонних. Так был выработан еще один план побега.
Полиция выдавала Саше разрешения на поездки в отдаленные города, и он мог ездить туда на базары. Скупал часы, некоторые другие вещи, а потом их перепродавал. У него скопилась значительная сумма марок, и он решил потратить их на покупку для нас приличной одежды, чтобы не вызывать подозрений. Мы узнали, что такую одежду можно купить на черном рынке в Кельне или Весселинге. Саша стал ездить на базары и в конце сентября сообщил, что все готово к побегу. Но неожиданно он сломал ногу и только через четыре месяца снова смог ходить, опираясь на трость.
Второй побег
В апреле 1944 г. мы снова заговорили о побеге. Но нам с Борисом по-прежнему не выдавали разрешения на дальние поедки, а Саша легко получал разовые разрешения на выезд в другие города радиусом до 200 километров.
Мы наметили побег на первое воскресенье мая. Решили открыть свои планы девушке Наде. Она была родом из Белой Церкви, что неподалеку от Богуслава, где прошло мое детство. Надя работала в монастыре, помогала нам в свое время купить одежду и помогла приготовить продукты в дорогу. Мы взяли адрес ее родных, а ей написали адреса наших, и договорились, что кто раньше попадет на Родину, сообщит семьям о судьбе других. Еще мы договорились, что пришлем Наде с дороги открытки с информацией о себе в иносказательной форме. Открытки будем подписывать именем Надиной подруги Глаши, которая тоже работала в монастыре, но из-за начавшегося у нее туберкулеза была отправлена домой в Белоруссию.
В течение недели мы с Борисом подготовились к отъезду и в субботу, взяв необходимые вещи, отправились в Мюнстерайфель к Саше Нефедову. У него был чемодан, куда мы сложили продукты, у меня и Бориса — небольшие рюкзачки. Билеты на поезд Саша дал каждому. У меня и Бориса было по 200 марок, а основная сумма денег — у Саши. Борис и я были одеты в костюмы, легкие плащи и береты. На Саше вместо плаща было летнее пальто с бархатным воротником, черная шляпа, большой зонтик-трость и в довершение всего — очки с затемненными стеклами. Вероятно, поэтому на Сашу не обращали внимание полицейские, когда он ездил по Германии.
Часов в шесть вечера мы сели в поезд и прибыли в Бонн, где должны были сделать пересаду на берлинский поезд. До его прихода оставалось около двух часов, и мы вышли на привокзальную площадь, чтобы не болтаться на перроне. Когда возвращались, у входа на перрон военная полиция проверяла документы. Впреди шел Саша, опираясь на зонт-трость, за ним я и Борис. Сашу пропустили на перрон, даже не потребовав у него документы, а нас остановили. Убедившись, что у нас аусвайсы остарбайтеров и нет разрешения на проезд, приказали отойти в сторону и ждать. Мы видели, как Саша, оглядываясь, подошел к вагону и вошел в поезд.
Военная полиция передала нас привокзальной полиции. Начальник привокзальной полиции приказал полицейскому отвезти нас в городскую полицию, чтобы там с нами разбирались. Уже был вечер, мы шли по улице, а в трех шагах позади — полицейский. Впереди показалась грузовая машина, осветившая нас фарами. Улица была очень узкая, и мы вынуждены были прижаться к стене разрушенного дома, чтобы пропустить машину:
— Бежим, — крикнул я, и мы через пролом в стене скрылись в развалинах.
Полицеский, конвоировавший нас, был не первой молодости. Пока он сообразил в темноте, что случилось, пока достал пистолет, мы успели убежать далеко. Крикнув “Стой!”, конвоир пару раз выстрелил, и наступила тишина.
Идти на вокзал было нельзя, а чтобы попасть в Фуссем, пока нас не хватились, предстояло преодолеть пешком более тридцати километров. Благодаря близости вокзала мы легко определили направление на Мюнстерафейль и к часу ночи, соблюдая все меры предострожности, выбрались на окраину города и пошли вдоль шоссе. Через полчаса дошли до небольшого поселка. В Германии было принято оставлять велосипеды у входной двери или у калитки. Чтобы не попасть в концлагерь, пришлось нам взять два велосипеда, и к рассвету мы доехали до Мюнстерафейля. Ехать при дневном свете по шоссе до Фуссема было опасно. Поэтому мы оставили велосипеды у первого встретившегося нам по пути дома и пошли пешком по знакомой лесной дороге.
Никто не обратил внимания на нашу отлучку, так как мы нередко по выходным ходили навещать своего друга. В монастырском саду мы увидели Надю и рассказали ей о своих приключениях.
Примерно через неделю вечером после работы Надя пришла к нам и принесла нам письмо от “Глаши”: “Дорогая Надя! Я доехала до Берлина благополучно. Из парней ко мне никто не приставал. На берлинском вокзале попала под бомбежку, но все же удалось пересесть на краковский поезд. Уезжаю через десять минут. Со мной собирались уехать из Мюнстерайфеля еще две русские девушки, но по какой-то причине отстали. Целую тебя, привет всем нашим. Глаша”. С перерывом в четыре-пять дней были получены еще два письма. Во втором письме сообщалось, что Глаша приехала в Краков, была задержана польской полицией, но откупилась и уезжает в направлении Львова. Третье письмо гласило: “Братцы, сейчас сижу в польском кафе и трачу последние немецкие марки. Слышны залпы наших орудий. Буду пытаться перебраться к своим. До свидания. Ваш друг”. На радостях Саша потерял бдительность, и, попади письмо в руки цензуры или полиции, очень бы нас подвел.
Встретились мы с Сашей снова через двадцать пять лет.
Среди остарбайтеров в Золингене
Наступило лето 1944 г.. Нам стало известно о покушении на фюрера и потере Германией верного военного союзника — Италии. Чувствовалось, что авторитет руководителей рейха среди немецких рабочих очень упал. Только отъявленные нацисты продолжали верить в победу и агитировать за продолжение войны. Рядом с нами работал молодой парень Юпп Мауль, веселый и добродушный. Однажды он и еще один пожилой рабочий заступились за Бориса, когда у него случился конфликт с парторгом завода. И тот уже не рискнул конфликтовать с немецкими рабочими, а в начале войны у рабочих, открыто заступившихся за пленного или остарбайтера, могли быть большие неприятности. Юпп нередко высказывал в нашем присутствии свое недовольство фашизмом. Он рассказал нам, что в Германии появилась юношеская организация “Эдельвейс пираты”, которая противостоит фашистской молодежной организации. Как и мы, Юпп ожидал крушения нацизма.
В конце августа 1944 г. в один из рабочих дней утром появился наш охранник Йоган и распорядился собрать вещи и постельные принадлежности. Поступил приказ всех остарбайтеров мужского пола срочно эвакуировать на правый берег Рейна. Я успел сбегать в монастырь и попросил Надю сообщить моим родным обо мне, если она попадет домой раньше меня. Подошли две машины. Мы разместились в кузове, охранник сказал, что мы едем в город Золинген.
В Золингене нас передали представителю фирмы “Oswald Forst”, имевшей там машиностроительный завод, который выпускал протяжные станки и инструменты к ним. Всех нас, 11 человек, поселили в раздевалке теннисного корта. Бориса и меня направили в сборочный цех. На заводе работали поляки, французы, бельгийцы, итальянцы, рабочих из Советского Союза, остарбайтеров, здесь раньше не было. Поэтому нас встретили с любопытством, окружили и начали задавать вопросы, в том числе и связанные с политикой.
Некоторые немцы на заводе, не сталкивавшиеся раньше с русскими, верили нацистской пропаганде и относились к нам как к полулюдям, а иногда — с откровенной ненавистью или презрением. Но по мере общения и совместной работы у многих отношение к нам изменилось.
Население Золингена было обеспечено продуктами намного хуже, чем в Фуссеме, так как поблизости было очень мало бауэровских хозяйств. Наш быт также резко ухудшился, в Золингене не росли вдоль дорог фруктовые деревья.
В субботу 4 ноября Золинген, который до этого практически не бомбили, дважды подвергся сильным бомбежкам, много людей погибло. Пострадал и машиностроительный завод. А от зажигательной бомбы сгорел наш домик на корте.
Шеф завода Освальд Форст предложил нам самим где-то устроиться на ночлег у знакомых остарбайтеров, чье жилье уцелело, и наведываться на завод. Он рассчитывал, что через пару дней начнутся восстановительные работы. Хочу отметить, что шеф побеспокоился о том, чтобы для иностранных рабочих продолжали готовить обеды. На третий день после бомбежки нас поселили в душевой завода, и мы приступили к работе — выгребали мусор, вставляли оконные рамы, стеклили окна, ремонтировали крышу. Работали и немцы, и иностранные рабочие. Массированных бомбежек больше не было, но периодически появлялись одиночные американские штурмовики. Они вели обстрел города из пулеметов и сбрасывали небольшие бомбы. Форст распорядился начать строительство бомбоубежища для работников завода.
И среди немцев, и среди иностранных рабочих дициплина постепенно снижалась. У немцев появились скрывающиеся от армии, иностранцы самовольно меняли место работы без ведома биржи труда, некоторые бауэры держали у себя работников нелегально. Переиодически через город конвоировали партии военнопленных, перегоняя их подальше от прифронтовой зоны. Тех, кому удавалось бежать, остарбайтеры прятали у себя или устраивали у бауэров.
Бориса, меня и еще одного остарбайтера Андрея знакомые немцы приглашали ремонтировать крыши своих домов, пострадавших от бомбежки. Расплачивались деньгами или кормили. Отремонтировали мы с Борисом и крышу на доме шефа нашего завода Форста. Из-за ремонтых работ мы с Андреем попали в очень опасную ситуацию. Примерно за неделю до нового 1945 г. владелец пекарни попросил нас заменить в одной из комнат оконные рамы. Когда мы справились с работой, он накормил нас и дал с собой по буханке хлеба и по десятку сладких булочек.. Вернувшись к себе, мы угостили своих соседей. Но на следующий день на нас свалилась беда. Перед окончанием работы в цех вбежала одна из работниц, тоже остарбайтер, и, волнуясь сказала:
— Сергей, в вашей комнате двое полицейских и пекарь сделали обыск, и у тебя под матрацем нашли 200 марок. Пекарь говорит, что это те марки, которые пропали у него дома. Тебя и Андрея обвиняют в краже и хотят арестовать. Вам нужно срочно бежать.
Зная, что за кражу немцы наказывают очень строго даже своих, а остарбайтеров могут просто расстрелять, не разбираясь, мы решили немедленно скрыться. Временное пристанище нашли у итальянских рабочих, которые приняли нас без особых расспросов. Один из них сходил с запиской на завод и забрал нашу теплую одежду, которую соседи выбросили ему через окно. Следующую ночь мы провели у французов. Через несколько дней после нашего побега к бельгийцам, где мы тогда прятались, пришел Борис и сообщил, что буря утихла. На завод пришел пекарь, извинился, принес реквизированные у меня 200 марок и сказал, что деньги не были украдены. Оказалось, перед отъездом его жена перепрятала деньги и забыла ему об этом сообщить.
Борис сказал, что по его мнению мы можем возвращаться на завод. Мы пошли к мастеру домой и узнали, что он и шеф в курсе всех событий, считают нас невиновными, а пострадавшими и пообещал защитить от парторга. В ту же ночь мы вернулись на завод и утром вышли на работу. Рабочие цеха встретили нас дружелюбно и с сочувствием отнеслись к нашим невзгодам. Это было за два дня до наступления 1945 г. А 31 декабря к нам в комнату пришел пекарь с огромным тортом. Мы поблагодарили его и расстались дружески. В этот вечер мы пожелали друг другу следующий новый год встретить у себя дома.
В Германии во время войны издавалась газета для советских военнопленных и остарбайтеров. Если не ошибаюсь, она называлась “Русское слово”. В ней начали появляться сообщения, что освобожденных из плена и вернувшихся домой красноармейцев считают предателями родины и ссылают в сибирские лагеря. В то же время пошли слухи, что немцы уничтожают тех военнопленных и остарбайтеров, которых не успели эвакуировать до прихода американцев.
К Золингену приближались американские войска, и мы чувствовали себя между двух огней и не знали, что предпринять. Где-то в середине марта я увидел над лесом самолет с американскими опознавательными знаками. С него разбрасывали листовки. Я взял одну и прочел: “ Товарищи, не верьте немецкой агитации о том, что на родине вас считают предателями. Товарищ Сталин сказал, что плен — не позор, а несчастье. Родина ждет вас!”. Я собрал еще несколько листовок и принес своим товарищам. Они отреагировали на них радостно.
Андрей и Захар из нашей фуссемской команды нашли в лесу автомат с двумя кассетами патронов и винтовку. Мы решили на всякий случай припрятать оружие.
Одной из девушек-остарбайтеров, той, что предупредила меня и Бориса о возможном аресте во время недоразумения с пекарем, поручили убрать кабинет парторга. Он находился на первом этаже, под комнатой, которую занимали мы. Там хранились партийные документы. Закончив уборку, девушка нашла меня и сообщила, что под креслом парторга она обнаружила тайник. Открыв крышку, увидела там много каких-то пакетиков. Один захватила с собой. Взяв пакет, я прочел: “Sprengstoff” (Взрывчатка). Я попросил девушку молчать, и ввел в курс дела Бориса и Андрея. У нас появилось подозрение, что парторг хочет взорвать завод, возможно, вместе с нами, и мы решили быть настороже.
В середине дня 16 апреля появились слухи, что американцы приближаются к городу. Слышна была артиллерийская стрельба. Чувствуя, что возможна диверсия, мы с Андреем и Борисом собрали всех остарбайтеров, объяснили ситуацию и попросили по возможности не находиться в помещении.
Наступил вечер. Мы сидели на скамейках рядом с главным входом в помещение завода. Неожиданно появился парторг. Мы беседовали около получаса, и он все время старался уговорить нас уйти в свою комнату. Главными собеседниками его были мы с Борисом, все время повторяя, что выспаться успеем. Видя, что мы являемся главным препятствием для выполнения его плана, парторг отозвал нас в сторону и, остановившись на лестнице у входной двери, сказал:
— Если вы будете и дальше ждать своих союзников и не зайдете в помещение, я применю оружие.
— Зайдем, когда потребуется, — резко ответил Борис.
Парторг не сдержался, ударил Бориса по лицу и выхватил пистолет. Но выстрелить не успел, автоматная очередь, выпущенная из-за двери, сразила его, и он упал на ступеньки лестницы. Мы спрятали тело в обломках ближайшего разрушенного здания и, опасаясь, что завод заминирован, ушли ночевать в ближайший лес.
Освобождение
Проснулись мы на рассвете. Вокруг была тишина. У дороги увидели множество брошенных машин, людей возле них не было. Меня направили на разведку к домику бауэрши, у которой работал наш знакомый остарбайтер Виктор, со мной пошла одна из девушек, работавших на заводе. Возле дома мы услышали оклик и увидели солдата, направившего на нас автомат. По каске и форме я догадался, что он американец и, вспомнив институтский английский, сказал, что я русский, здесь мой товарищ Виктор. Солдат опустил автомат и постучал в дверь. Дверь открыл Виктор и, увидев меня, закричал:
— Серега, мы уже свободны со вчерашнего дня!
Девушка побежала в лес и привела остальных. Вместе с американской частью мы вернулись в Золинген и пошли на завод. Мы не знали, какая встреча нас ожидает, поэтому вооружились. Раздобыть оружие было легко, его много валялось в брошенных атомобилях. Заводские цеха опустели. Остарбайтеры решили больше не работать на заводе. Шеф с этим согласился и разрешил пока жить в заводском общежитии. Правда, с довольствия нас сняли, пришлось самим добывать себе пропитание. Но тогда это было несложно, так как, отступая, немецкие войска бросили очень много имущества и продуктов.
После первого мая нам сообщили, что на окраине города организован сборный пункт советских граждан. Там будут регистрироваться остарбайтеры и военнопленные перед отправкой на родину. 3 мая мы перебрались туда. В конце мая в связи с перераспределением зон оккупации американцы покинули Золинген, и вместо них пришли англичане. Через некоторое время у нас появился английский полковник вместе с нашим капитаном и сообщил, что в середине июня начнется репатриация всех иностранцев.
Накануне отъезда мы с Борисом зашли на завод, попрощались с теми, кто поддерживал с нами хорошие отношения, поблагодарили их и пожелали поскорее восстановить страну и зажить нормальной жизнью. Зашли мы также домой к Виллли Монгаймиусу попрощаться с ним и его женой.
В Вупертале нас ожидал пустой товарный поезд на Магдебург. Граница между английской и советской зонами оккупации проходила по Эльбе. Выгрузившись из поезда, мы направились на противоположный берег. Когда проходили по мосту, нас бегло осматривали советские солдаты. Вновь прибывших разместили на территории воинской части, поставили на довольствие и зарегистрировали. Я снова стал Георгием Гелевым. Через пару дней нас перевезли в Ораниенбург на территорию бывшего концлагеря Заксенхаузен. Мы сразу же написали письма родным. Я в Харьков, где жили мои мама и отчим, и в Богуслав, где жила моя бабушка.
В задачи пункта репатриации входила проверка правильности воинских званий, сообщаемых репатриантами, а также выявление полицейских, власовцев и др. Звания проверяла группа офицеров, имеющая связь с центральным архивом, а выявлением, как тогда говорили, вражеских элементов — работники смерша (смерть шпионам). Смерш не верил словам, в подтверждение нужно было представить либо документ, либо нескольких свидетелей.
Наша золингенская команда прошла проверку легко. У всех нас были свидетели, подтвердившие, что мы не принадлежим к вражеским элементам.
В конце июля наш лагерь пешим порядком передислоцировали во Франкфурт-на-Одере. Здесь нас поселили не в лагере, а в отдельных свободных помещениях. Нас никуда не вызывали, только сообщили, что мы зачислены в 377-й запасной стрелковый полк. Появился адрес, по которому мы могли получать письма. И остарбайтеров, и военнопленных отправляли на родину очень медленно, так как в Германии их было очень много. В начале сентября объявили, что на днях отправят в город Козельск Калужской области, где мы пройдем окончательную проверку. Предупредили, что дорога будет долгой, и предложили оборудовать пустые товарные вагоны. Вокруг было много разрушенных домов, так что мы легко нашли материалы и соорудили в вагонах нары и столы. А мы в свой вагон принесли даже пианино, которое нашли в одном из домов под обломками.
Правда, довезти пианино до Козельска не удалось, в Польше мы обменяли его на продукты, так как выдаваемых в дороге сухих пайков нам не хватало. Эшелон прибыл в Брест. В Козельск прибыли в конце сентября. Нас разместили на окраине в лесу в землянках какой-то воинской части. Мы сразу же написали письма своим родным и знакомым, сообщив свой адрес. Проверку смерша я прошел еще в Германии и теперь ожидал справку из архива о воинском звании. В начале декабря я был вызван в комиссию, занимавшуюся демобилизацией. Мне сообщили, что в документах центрального военного архива я не числюсь лейтенантом и могу быть демоблизован только как рядовой. Я дал согласие и 5 декабря 1945 г. был демобилизован.
После войны
После войны я женился и поселился в г.Киеве. Когда мы сдали на прописку паспорта в 13-е отделение милиции, мне сказали, что в течение суток я должен покинуть Киев и выехать за 101-й километр. Причину изгнания не сообщили. Я пошел в НКВД выяснить все обстоятельства. В бюро пропусков меня направили к майору. Он выслушал мои жалобы и сказал:
— Вот вам бумага и ручка. Опишите подробно, когда, в каких городах и на каких преприятиях вы находились и чем там занимались.
Когда я закончил свои мемуары, майор сказал, чтобы я никуда не уезжал и зашел через два дня.
Когда я снова пришел к нему, он предложил мне закурить и, улыбаясь, произнес:
— Идите в милицию и прописывайтесь. Но услуга за услугу. Завтра вы и ваша супруга оденьтесь, по возможности, приличнее. Утром на работу к вам приедет на машине кинооператор. Где и как вас снимать, он знает. Ваша задача — побольше улыбаться и выполнять его указания.
На следующий день к месу нашей работы подъехала “Победа”. В ней были шофер и кинооператор. Сначала он снимал меня на рабочем месте, потом мы ездили по городу, и нас с женой снимали на футбольном матче, на прогулке в парке и в кафе за чашкой кофе. Мы поняли, что снимается хроника о том, как хорошо живется в Советском Союзе бывшим военнопленным для показа за границей. Прописали меня в милиции без малейших вопросов. В конце 1948 г. меня назначили главным конструктором машин, но через неоторое время меня вызвал к себе главный инженер и сказал:
— Вы хорошо работаете, и претензий к вам у меня нет. Но по некоторым причинам, которые я не могу вам сообщить, вы можете занимать только должность старшего инженера, но не главного конструктора.
Я снова стал сдельщиком. А через некоторое время одна из машинисток сообщила мне по секрету, что печатала список сотрудников, которые по приказу Минуглепрома СССР должны быть переведены на работу в районы Крайнего Севера. В списке были все те, кто находился в плену и в оккупации, в том числе и я. Чтобы снова не скитаться по свету, да еще с маленьким ребенком, я срочно уволился и три месяца искал работу. Мне везде отказывали, хотя везде требовались конструкторы.
После 1956 г. я не ощущал особых притеснений из-за того, что был в плену. Правда, многих сотрудников посылали в командировки за границу, а меня нет. В конце 1977 года решил уйти на пенсию. Через два месяца пенсионного отдыха я понял, что это не для меня и позвонил знакомому директору Киевского завода строительных материалов. Так в начале 1978 года я был зачислен на завод на должность слесаря 6-го разряда. Это давало мне возможность получать и пенсию, и зарплату. На заводе я проработал 21 год и вышел на пенсию вторично.
На заводе я занимался разработкой нового оборудования. Судьба свела меня с немцами еще раз. Киевсий завод стройматериалов стал АО “Стоймак-Кнауфф”. Началась реконструкция предприятия. Для монтажа и отладки оборудования, завезенного из Германии, приехали монтажники-немцы.. С монтажниками Иоханом Кранцем и Гарри Уршпрунгом я сошелся очень близко и даже подружился. Гарри жил в Дюссельдорфе, который находится в 30 км от Золингена, где я прожил около года во время войны. Я попросил Гарри, если он будет в Золингене, сфотографировать несколько памятных для меня мест и прислать мне фотографии. Через три недели после отъезда Гарри в Германию получил бандероль с альбомом фотоснимков.
Постепенно уходят из жизни друзья и знакомые, и это очень печально. Я чувствую, что “снаряды падают все ближе и ближе” и, оглядываясь назад, вспоминая прошедшую жизнь, вижу, что некоторые ее этапы прожил бесцветно и неинтересно. Был здоров, не бедствовал, но жизнь не ценил, ожидая чего-то лучшего в будущем. Ошибки свои я понял только теперь, поэтому молодым советую не надеяться на лучшее будущее, а жить настоящим и так, чтобы, говоря словами писателя Николая Островского, “не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы”.
Закончив и перечитав свои воспоминания, я подумал, что некоторые могут упрекнуть меня в приукрашивании взаимоотношений между немцами, военнопленными и остарбайтерами. В моем рассказе немцы выглядят благороднее, чем в нашей литературе и кинофильмах. Поэтому я хочу сделать некоторые пояснения. В Германии во время войны были лагеря различных типов, в книгах и фильмах их нередко путают. В одних содержались военнопленные до распределения их на работу. В других под охраной жили военопленные, работающие на различных предприятиях. И были концентрационные лагеря, где находились беглые военнопленные, политзаключенные, уголовники и евреи. Все ужасы жизни узников фашизма, отраженные в литературе и кино, чаще всего имели место в концлагерях, где людей целенаправленно истребляли. Но я считаю, что самые ужасные условия были в лагерях, где до конца 1941 г. содержались военопленные первых месяцев войны. В концлагерях людей умерщвляли, но это была быстрая смерть. В лагерях типа смоленского, ярцевского, алитусского люди, заедаемые вшами, спали вповалку на земле или на холодном полу и умирали медленно и мучительно от голода, холода, ран и болезней.
Военнопленные, работавшие на предприятиях, жили, как заключенные, под охраной, но имели простенькие постельные принадлежности и питание, позволявшее выполнять возложеную на них работу.
Остарбайтеры жили без охраны в общежитиях или у хозяев. Они могли свободно перемещаться в пределах деревни или города, а с разрешения полиции посещали соседние города. Работавшие на предпрятиях питались в общей столовой и получали зарплату.
Я уже упоминал, что отношение рядовых немцев к советским людям изменялось в лучшую сторону по мере общения. Но были и жестокость, и зверства, и хамство, я об этом тоже написал. Но считаю, дело не в том, что люди, которые так поступали, были немцами, они просто были плохими людьми. Думаю, пришло время осознать, что Землю населяют не англичане, французы, немцы, русские, украинцы и так далее, а земляне, имеющие равные права на пользование земными богатствами, которые нужно беречь.
Всем нациям пора объединять свои усилия для сохранения жизни на Земле, ее природных ресурсов и прекращения войн.
Безбожники, евреи, христиане,
Кто различал вас в боевом тумане?
Один пред смертью был у вас завет:
“Живые, сделайте светлее этот свет!”
(Джо Уоллес в переводе Самуила Маршака)
Георгий Наумович Гелев умер 19 августа 2003 года. Когда его хоронили, во время церемонии прощания некоторые сотрудники и знакомые подходили и целовали ему руку — первые — как своему учителю, вторые — в знак благодарности за его труд.