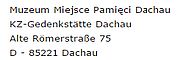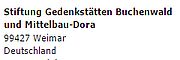Фурдыло Григорий Яковлевич
Родился в 1925 году. 22 июня ровно в 4 часа бомбили Киев. Мы узнали, что началась война. И скоро были налеты немецких самолетов сюда, на Тростянец. А в сентябре был налет немецких самолетов на железнодорожный вокзал. Мы жили недалеко от вокзала. И когда бомбили вокзал, убили мою любимую маму. Бомба упала в огород, и стекла впились маме в лицо. Соседка забрала ее и повела в больницу. А как они второй раз бомбить зашли, она уже из больницы шла, ей повытягивали стекло, мимо железнодорожной столовой шла, но ее стали бомбить, и маму возле столовой и убили. А отец прибежал домой и спрашивает; «Где мама?» Я сказал, что так и так, пошла в больницу. И он следом побежал в больницу, и уже по дороге ее нашел. Она уже лежала убитой. Мы ее забрали и похоронили. Наши отступают, немецкие войска подходят сюда, все ближе к Тростянцу. И к Новому году немецкие войска были уже в 1942 году в Тростянце. Начались повешения, расстрелы, молодежь забирали в Германию.
В мае 1942 года я был угнан семнадцатилетним подростком в Германию.
Эшелоны прибывали в Германию сначала в различные распределительные лагеря. В зависимости от потребности в рабочей силе там формировались группы для разных регионов и отправлялись дальше по железной дороге или автобусами. Я прибыл в Бремен и должен был сначала работать на заводе «Боргвард-Верке». Вместе со своим другом я бежал оттуда, но уже на вокзале был схвачен и перевезен в штрафной лагерь в Бремен-Фарге. Спустя приблизительно два месяца я был переведен в концлагерь Нойенгамме. Там я получил лагерный номер 15191. В концлагере Нойенгамме я должен был работать в команде «Фертигунгештелле».
Блоковой дал нам инструктаж, что если придет блокфюрер, то нужно снимать кепки, чтобы приветствовать его. Бывало, он идет и как будто бы не видит, потом говорит: «Иди сюда», — и начинает резиновым шлангом бить по голове, или носком ударит. И когда шли на работу, капо подает команду снять кепку, а вышли за ворота по крику уже одеваешь эту кепку.
Они приводят меня на блок. Блоковый записал мой номер, фамилию и сказал номер стола, за каким столом я должен получать паек. Идут команды с работы. Кричат: «Все на аппель!» Все выстраиваются возле блоков, пересчитают. Приходит блоковый, потом блокфюрер, посчитают нас всех и докладывают коменданту. Потом кричат: «Принести еду!» Они идут к кухне, там стоят уже бочки на каждый блок. Несут эти бочки к себе на блок. Вечером давали кофе, кусочек хлеба, маргарина и, как называлось, «Кахе», его берешь ложечкой, и он растекается. И давали ложечку мармеладу, красненький, сладкий. Да это было раз в день, а так, в основном, кофе. Утром дают только кофе, тебе есть охота, а они дают кофе.
А приходит вечер, мы растягивали матрацы по полу. Пальто и обувь кладем под матрац, под голову. И ложимся, как селедки. И кричат, что отбой: «Свет выключать!» Горит только одна контрольная лампочка, чтобы было можно в туалет. Мы все лежим, а хочется в туалет, пошел, другие подвинулись на его место. Он возвращается, а места уже нет. Тот стонет, там уже умирает. Утром кричат:
«Подъем!» Мертвых тянут к умывальнику, кто не встает, но еще дышит, их тоже туда, в одну кучу. А мы одеваемся и все матрацы складываем к окну. А команда уже пошла за кофе. Приносят кофе, уже кричат: «Постороиться!» Выходим на плац, строят, блоковой считает опять, а потом расходимся по рабочим командам.
В первый раз я не знал, куда мне
идти. Меня блоковой повел к капо команды «Фертигунгештелле». И этот капо сказал, чтобы я был в этой команде, я каждый раз ходил в эту команду.
Я думал только еде. О другом я не думал. Я не думал: «Буду я живой или не буду?» Одна мысль была — только бы наесться. И все. В воскресенье собираемся кучей и болтаем. Как дома пирожки пекли или суп варили. Все про еду разговаривали. Одни только разговоры о еде. Болтали о том, чтобы нас быстрее освободили, чтобы выйти из лагеря. Такой был разговор. Про что мы могли, детвора, беседовать: поесть бы и про освобождение. Больше ни о чем.
Питание — это баланда из брюквы и два раза на неделю давали картофель в мундирах пополам с гнилой. Ее не перебирали, но и гнилую мы кушали, горькая она, но кушать хочется. Выдали нам каждому миску железную, мы пробивали гвоздем дырочку делали кружочек из проволоки и закрепляли сзади за пояс, и она с нами. Если ее не возьмешь, то будешь без обеда на работе. Ложку сам сделал деревянную и короткую, чтобы в кармане носить. Так отощали, что на мне был один скелет и кожа. Ноги не сгибались, при помощи рук вставал, вцепившись за нары. Спали на полу, потому что на нары не мог влезть. Ноги не сгибались. Я еле-еле передвигался, когда утром выводили на плац на поверку. Кто больной, оставался на плацу, а остальных уводили строить канал.
Мы слышали, что Сталинград, что немецкие войска отступают. Говорили, что русские скоро будут тут, что тогда мы пойдем на свободу. Это мы слышали. У нас же там ни радио не было, ни газет, ничего не было. Мы даже не знали, сколько времени. Во сколько подняли на работу и во сколько мы кончаем, мы не знали. Солнце всходит и заходит, ходили на работу. Больше ничего мы не знали. Мы были рабы и все.
Когда наши войска под Сталинградом стали нажимать на немецкие войска, тогда нам уже легче стало. И кровати трехъярусные у нас в блоках поставили, и на работе уже давали цулагу: два кусочка хлеба, а там посередине колбаса, немножко маргарина. Вот тогда условия жизни стали получше, когда фронт стал двигаться.
В июле-августе 1944 года я попал с партией узников в концлагерь Бухенвальд. Оттуда был освобожден американскими солдатами 11 апреля 1945 года.
Ничего я и никому не рассказывал, потому что тогда нельзя было ничего рассказывать. Нас презирали здесь, в России. А потом уже, как женился, я рассказал жене все, что я пережил. А она плакала. Сейчас вот так вспомнишь, тяжело. Такое пережил, жизни мы не видели, какую жизнь мы видели? Попали в концлагеря, концлагеря прошли — армия. Потом дети пошли. Сейчас только бы и пожить, да некогда жить, уже года такие. Так что хорошего мы ничего не видели.