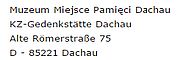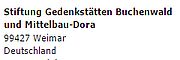Галайда Борис Сергійович
Освенцим – Аушвиц
Освенцим…концлагерь…холодные блоки.
Дрожишь, словно лист на ветру.
Холодные нары, матрац кривобокий
И жуткий подъем поутру.
Крики и стоны, со всхлипом рыданья.
Проснуться порядком еще не успел,
А плеть – по спине, чтоб пришел ты в сознанье
И робу свою натянуть чтоб успел.
Вонючая жидкость, что „кавой” зовется,
Горбушка эрзаца с названием „брот”.
На польском, немецком руганье несется –
На выход! В команды! Форвертс – вперед!
И в ветер, и в дождь, даже в зимнюю стужу
Под звуки оркестра топай, шагай.
Команды выходят за лагерь наружу.
Шнель! Шнель! Ведь „арбайтен махт фрай”.
Колодки стучат по избитой дороге,
И голос пропитый кричит „айн, цвай, драй…”
Команды бредут, еле двигая ноги,
А рядом собачий пугающий лай.
Кирка и лопата, застывшие руки.
Согнись, разогнись, но не стой,
Работай, терпи эти адские муки,
Иначе уйдешь ты на вечный покой.
Не всем удавалось сберечь свои силы.
С проклятьем и стонами падал иной.
Но в лагерь его все равно приносили.
В печах крематория не был простой.
Я помню концлагерь. Забыть невозможно,
Останется это со мной навсегда.
И даже сейчас в моем сердце тревожно,
Хотя поседела давно голова.
Узник „Освенцима”
В обнимку со мертью изо дня в день,
С блеском холодных слезящихся глаз,
Худой, изможденный, ходячая тень,
Как избавления, смерти искал не раз.
А смерть почему-то всегда подводила,
Рядом живущих косила друзей,
Его стороной как назло обходила,
Дурманила дымом горящих печей.
Ночью и днем эти печи горели,
Черный, вонючий окутывал дым
Души умерших, что в небо взлетели,
Бросив свой вызов страданьям земным.
А он все же жил и шатался от злости,
Из месяца в месяц страданья терпел,
Натянута кожа на хрупкие кости,
Дождаться своих, одного лишь хотел.
Дождался – пришло избавленье
От печи, от газа, от пули шальной.
Оправданы были и злость и терпенье,
Из лагеря смерти он вышел живой.
Как мало в живых их сегодня осталось,
Прошедших сквозь огненный ад.
Скоро последний уйдет, не прощаясь,
Невидимой битвы солдат.
Баланда и смерть.
Из ревира он вышел украдкой,
Где миску баланды добыл,
И, видно, спешил без оглядки
К блоку, в котором жил.
А сердце стучало в тревоге,
В предчувствии скорой беды.
Осталось пройти лишь немного,
Когда появились они.
Не вовремя снял он свой митцен,
Коснувшись спиною стены,
И надо ж такому случиться,
Эсесовцы были пьяны.
Они приседать заставляли,
Когда уже не было силы,
Носком сапога добивали
Мальчишку два дюжих верзилы.
Остался лежать на асфальте,
С баландой смешалася кровь.
И митцен его арестантский
Сжимала рука вновь и вновь.
Малолетние узники
Родилася девочка, родилась в Германии.
Родилася лапочка, родилась в изгнании.
И того не ведала и не знала крошечка.
Что в чужой стране подрастет немножечко.
Маму знала девочка, об отце не ведала.
Если б и спросила, мама б не ответила.
Мама б не ответила, ведь сама боялась,
Не узнали б с кем она иногда встречалась.
Вот пришел конец войне, кончилось изгнание.
Вместе с мамой крошка дочь прибыла с Германии.
Оказался жив отец мамин, ее дедушка.
Со слезами на глазах целовал он девочку.
Ах ты, крошечка моя, пропади Германия.
Вмете будем теперь жить и делить страдания.
Стала взрослой девочка, писаной красавицей.
Женихи за ней гурьбой, так она всем нравилась.
Стала мама бабушкой, дочь ведь стала мамою,
Вспоминают иногда далекую Германию.
Нянчит внучку бабушка, песнь поет певучую.
И рассказывает ей, как фашисты мучили.
И показывает ей в книжечках заветных
Про таких, как ее мама, узниц малолетних.
Льготы им дала страна и к тому ж немалые
За то, что те выжили, родившись в Германии.