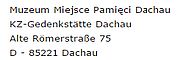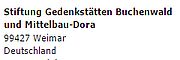Мирчевская Инесса Борисовна
 Родилась я в Киеве в голодном 33 году. Папа работал на заводе «Арсенал» начальником цеха. Мама была заготовщицей на 8-й обувной фабрике. Жили мы на Печерске, на Аистовой улице в маленьком 2-х этажном доме.
Родилась я в Киеве в голодном 33 году. Папа работал на заводе «Арсенал» начальником цеха. Мама была заготовщицей на 8-й обувной фабрике. Жили мы на Печерске, на Аистовой улице в маленьком 2-х этажном доме.
В мое детство ворвалась война, когда мне было неполных 8 лет. Я закончила 1-й класс 79 школы и мама отвезла меня на детсадовскую дачу в Ирпень. Садик был ведомственный, при 8-й обувной фабрике. Ветеранам фабрики разрешали оздоравливать своих детей – учеников младших классов.
22 июня 1941 года с самого раннего утра нас разбудил шум самолетов. Мы босиком повыскакивали на веранду и, задрав головы, с интересом наблюдали.
Потом стали приезжать родители. Они были необычно взволнованы. Некоторые плакали. Мы притихли, не понимая, в чем дело.
Киев нас встретил как-то по новому. Ехали в грузовиках или шли строем красноармейцы с заплечными мешками и скатанными за спиной шинелями. Шли гражданские с противогазами, ехала военная техника. В небе величественно плавали аэростаты.
Обычно мы горланили песни про войну: «Если завтра война, если враг нападет…», про веселый ветер, про Катюшу. А теперь, глядя на сосредоточенные лица взрослых, мы молчали, понимая, что что-то случилось.
В городе везде были развешаны плакаты «Родина-мать зовет!», «Ох и будет бита морда Гитлера-бандита!» Этот плакат, почему-то я особенно запомнила: Гитлер был с забинтованной головой и с поднятыми вверх руками.
… И я услыхала это страшное слово «Война». Многие киевляне рыли под Киевом противотанковые рвы. В парках, скверах, во дворах рыли окопчики.
Первые взрывы бомб прогремели в предместье Киева – Святошине. Потом сообщили по радио о вероломном нападении Германии на Советский Союз.
Город приобретал все более военный вид: возле витрин магазинов складывали мешки с песком. В подъездах и на крышах стояли емкости с водой и песком. На улицах ставили противотанковые ежи. Строго придерживались светомаскировки. Многие окна были оклеены крестами из газетной бумаги. Как будто бы радость и счастье, которые еще вчера царили в домах, сейчас были перечеркнуты. По радио объявили, что в обязательном порядке нужно сдать приемники.
День начинался по радио с песни: «Идет война народная, священная война!». После этого передавали сводки Советского информбюро, от которых чаще начинало биться сердце и холодело в груди. В первых числах июля по радио выступил Сталин.
Киев часто бомбили. Выли сирены и люди бежали в убежища, а дежурные – на крыши. Они должны были в случае необходимости сбрасывать зажигательные бомбы в емкости с водой или засыпать возгорания песком.
 В нашем печерском дворике мы тоже часто играли в войну. Одного мальчика чуть не повесили – он был «фашистом». Взрослые его еле спасли.
В нашем печерском дворике мы тоже часто играли в войну. Одного мальчика чуть не повесили – он был «фашистом». Взрослые его еле спасли.
Папа мой в первый же день войны ушел воевать. Он несколько раз подбросил меня, поцеловал и обнял нас с мамой, и убежал. Ушел навсегда. Я запомнила его, большого, сильного, стройного, с добрыми лучистыми глазами и чарующей улыбкой, в новенькой военной форме со скрипучими ремнями. Он был старшим батальонным комиссаром.
Мама собрала узелок с самым необходимым, взяла меня за руку и мы пошли на мамину фабрику эвакуироваться. Но нас не взяли. Маме сказали: «Маруся, все не могут уехать. Тебя с ребенком немцы не тронут. В первую очередь нужно вывезти евреев и партийных. Нам стало больно и обидно. Нас оставляли на произвол судьбы. Нас просто бросали.
Мы поплелись на переправу. Там – людей огромная толпа. Все хотят уехать. Вдруг – налет! Воздушный бой! И бомбы, бомбы, бомбы… Заполненная людьми баржа, только что отплывшая от берега, медленно погружалась в днепровские воды. Вокруг – крики, стоны, кровь… Это было страшно, это было жутко. Мама молилась, прижимая меня к себе.
На вокзале нам тоже не удалось уехать. Там требовали какие-то справки, какие-то пропуска.
Уставшие, напуганные возвратились мы домой.
Много дней гремела канонада. Под Киевом тоже шли бои. Город часто бомбили. Мы прятались в убежище. Иногда там и ночевали.
С 18 по 19 сентября в Киеве царило полное безвластие. Люди грабили магазины, квартиры эвакуированных. Тащили кто что мог.
Выходим мы как-то утром из убежища, а возле арсенальского дворца культуры стоит незнакомый солдат в серо-зеленой форме, в каске, с закатанными рукавами и с автоматом наперевес. Так вот они какие, немцы!
Везде много немецких солдат, машин, мотоциклов. Из репродукторов льются веселые немецкие маршы. Немцы орут: «Шталин капут». Появились приказы обязательной сдачи приемников, противогазов, оружия. Мы нашим властям не сдали папин приемник и немцам решили не сдавать. Спрятали его в моих игрушках, сверху посадили кукол, мишек.
Немцы вошли в Киев 19 сентября 1941 года. 778 дней, с пятницы до субботы, длилась немецкая оккупация нашего прекрасного Киева. 778 страшных дней топтали они своими коваными сапогами нашу святую землю. Они не давали пощады никому. Грабили, палили, убивали, вешали, насиловали, угоняли в рабство.
Наш красавец Мариинский парк превратили в пастбище для лошадей. Кони, повозки. Топчут, мнут. Но когда немцы обосновались в Мариинском дворце, то за всякие нарушения в парке они грозили расстрелом. В Комендантском сквере (парк Славы) и на Аскольдовой могиле немцы устроили свои кладбища.
Много улиц было переименовано. Бульвар Шевченко – Ровноштрассе, площадь Сталина (ныне Европейская) – Гитлерплатц и т.д.
Немцы вошли в Киев 19 сентября, а дней через 5 на Крещатике и в прилегающих районах начались страшные взрывы и пожары. Люди перешептывались, говоря, что Крещатик был заминирован нашими. Как будто наши не собирались возвращаться!..
Я видела, как со всего Печерска шли евреи в Бабий Яр. Несчастные люди шли с узелками, чемоданчиками, с колясками, с детками на руках и за руку. Маленькие детки крепко прижимали к своим грудкам любимые игрушки и быстро семенили своими маленькими ножками, чтобы не отстать от взрослых.
… Их расстреливали в Бабьем Яру. За что?! И деток – тоже… Иногда эти изверги бросали детей в Бабий Яр живыми. А женщин перед этим насиловали. Вечером под звуки губных гармошек эти нелюди, присвечивая фонариками, добивали свои жертвы. Рассказывали, что на улице Артема одна из школ была битком набита вещами несчастных, расстрелянных в Бабьем Яру.
Во время этих страшных лет оккупации мы голодали, мерзли. Не было воды, света. Пользовались коптилками, спали часто одетые. Пользовались печками-буржуйками. Чтобы не умереть с голода, ходили в села менять вещи на продукты.
Потом объявили обязательную трудовую повинность. Мама устроилась уборщицей. Немцы приглашали на работу в «великую» Германию. Добровольцев было мало. Тогда стали устраивать облавы на базарах, в церквях. Молодежи присылали повестки.
Работало киевское подполье. За убитых немцев или за диверсии немцы жестоко карали мирное население: расстреливали, вешали, сжигали живьем.
Как-то наши бомбили Киев. Погибло много немцев, погибло еще больше киевлян. Немцы устроили пышные похороны. Наших хоронили на Байковом кладбище. Возле университета остановились. Была панихида. Горели свечи, плакали люди. У немцев был 3-х-дневный траур.
Видели мы с мамой, как по улице Январского Восстания вели наших военнопленных. Они шли синие, замерзшие, окровавленные, полуживые и полураздетые, с глубоко запавшими глазами. Они поддерживали друг друга. Отстающих подталкивали прикладами. Упасть – значило умереть. Мы бросали пленным все, что у нас было: сухари, картошку, одежду.
Немцы приказывали сдавать на нужды своей армии теплые вещи, валенки, кожухи, кацавейки. Они не привыкли к нашим морозам.
В Киеве – комендантский час с шести вечера до пяти утра. Кто в это время появляется без пропуска, расстреливают без всякого предупреждения.
Когда прошел слух, что наши близко, немцы стали свирепствовать еще больше! Они изощрялись в своей жестокости. На Бутышевом переулке (ул. Иванова) распяли на столбе женщину. Напиваясь, целились из окон в живые мишени. Не щадили и детей. На бульваре Шевченко постоянно стояли виселицы. Снимать и хоронить повешенных запрещалось под угрозой смерти. На мою подругу немец натравил своего огромного пса. Пес побежал к ребенку, повалил, обнюхал и отошел. Оказался умнее хозяина. По доносу вытащили из канализации старую супружескую пару евреев. Они медленно умирали на бульваре Шевченко. Часовые сменялись, а они умирали от голода и холода.
На тротуарах нельзя было появляться на пути у немцев. Рестораны, кафе, театры и кинотеатры – «Только для немцев!».
Немцы уничтожили всех больных больни
цы Павлова. Загоняли несчастных в «газенвагены», включали газ. Затем задохнувшихся людей сваливали в Бабий Яр.
Как-то во время бомбежки наших бомба попала в Оперный театр, когда шел спектакль «Только для немцев!». Говорили, что когда вынесли пострадавших, спектакль продолжили. Тогда был «Лоенгран».
В сентябре 1943 г. немцы объявили все районы, лежащие вдоль Днепра, «мертвой зоной». Оттуда в обязательном порядке обязаны были все выселиться. Люди искали приюта у родственников или знакомых. Самые предприимчивые прятались в развалинах, канализационных люках, в кладбищенских склепах. Мы перебрались к маминой подруге на Лукьяновку. На Лукьяновке пахло дымом, горелым мясом и копотью. Горело в Бабьем Яру. Сжигали трупы расстрелянных и замученных – заметали следы.
Вскоре и к нам, на Лукьяновку ворвались немцы с собаками и стали выгонять нас на улицу, подталкивая прикладами. Немцы ругались, собаки лаяли, люди плакали и причитали. На улице уже было много таких, как мы. Нас погнали к вокзалу, затолкали в вонючие товарные вагоны и повезли. Нас везли, как потом узнали, в Германию.
Ехали очень долго. Мы потеряли счет времени. В дороге почти не кормили. Часто случались бомбежки. Привезли нас в Перемышль. Перед этим на какой-то станции покормили жидкой чечевицей. В Перемышле мы прошли дезинфекцию. Очень грубо обращались с нами и немцы, и польки в белых халатах. Толкали, щипали, дергали за волосы. Потом нас погрузили в пассажирские узкоколейные вагоны, тоже битком набитые, и повезли дальше.
Как-то ночью нас выгрузили на какой-то станции. Вдоль полотна стояли бараки. Нас расселили в этих деревянных бараках с 2-х и 3-х-этажными нарами. Потом мы узнали, что попали в трудовой лагерь города Дуйебург-Мейдерих. Приходилось трудиться по ремонту железнодорожных путей после налетов американской авиации.
Выдали нам брезентовые ботинки на деревянной подошве, куртки и шаровары. Все неопределенного цвета и больших размеров. Приходилось подкатывать. А на ноги, чтобы не растереть до ран, нужно было наматывать тряпье. Еще выдали голубой лоскуток с надписью «OST». Этот лоскуток нужно было пришить на куртку. Без него выходить из барака запрещалось.
Кормили, в основном, пойлом, из гнилой брюквы или чечевицы. Вставали рано, ложились поздно.
Иногда в лагерь приходили немцы покупать у коменданта дешевую рабочую силу в свои хозяйства. Однажды одна фрау купила меня себе в домработницы. Нужно было убирать большую квартиру, стирать белье, нянчить маленького беби. А мне ведь было всего неполных 11 лет. Сама фрау относилась ко мне более-менее, а вот ее невестка надо мной просто издевалась. Ее муж погиб на моей родине и она мстила мне за это. Она меня била, дергала за уши, за волосы, заставляла вставать чуть свет, а сама заваливалась спать. Один раз я нечаянно что-то разбила, так она так меня избила, что из носа и ушей пошла кровь и я потеряла сознание. Потом они уехали к родственникам, а меня возвратили в лагерь. В лагере было очень нелегко, но здесь была мама и мы хотя бы ночью могли быть вместе.
Прошел среди лагерников слух, что больных будут высылать домой, на Родину. И люди стали сами себя калечить. Домой их не отсылали. Куда-то отвозили, но не домой.
Режим в лагере был строгий. Комендант – суровый. Казалось, ему доставляло удовольствие видеть страдания подчиненных. Как-то он заставил одного парнишку подмести зубной щеткой барак. Тот, конечно же, не успел к сроку и его избили. А другого заставил держать в вытянутых руках по кирпичу. Парень потерял сознание.
Мало того, что утром будил удар в рельс. Комендант сам любил пробегать по баракам, и горе тому, кто замешкается.
Прошел слух, что детей будут переводить в специальный детский лагерь (а нас в лагере было человек 8). На следующий день мама отказалась идти на работу, решив, что лучше умереть вместе, чем разлучиться. Ее избили и посадили в карцер. Я плакала и бежала за ней. Меня крепко держала за руку соседка по нарам. Назавтра собрали на плацу лагерников, притащили избитую, всю в кровоподтеках маму. Подкатила страшная машина, которая должна была увезти маму. Я ору, вырываясь. Меня крепко держали. Вдруг одна женщина подошла к коменданту и, указывая на меня, что-то ему сказала. А дело в том, что как раз сегодня было 9 июля 1944 года и мне исполнилось 11 лет. Комендант подозвал меня и спросил, правда ли это. Я сквозь слезы, всхлипывая, сказала, что это действительно так. Он что-то крикнул конвоирам. Они подтащили маму к нему и он сказал, что мама ослушалась и за это должна быть наказана. Но… К нему пришла оригинальная мысль: он подарит мне маму. Такого подарка не получал никто… И он подарил мне маму. Нам разрешили пойти в барак. Обняв друг друга, мы дали волю слезам.
А через некоторое время наш лагерь разбомбили американцы. Нас опять затолкали в вагоны и повезли. Кто-то сказал, что, наверное, нас сожгут. При очередном налете состав разбомбили и уцелевшие люди стали расползаться. Чтобы не умереть с голода, мы с мамой побирались по селам. Ночевали в стогах. По-разному относились к нам немцы. Кто давал что-нибудь поесть и что-нибудь из вещей, а кто травил на нас собак.
Не помню, сколько мы скитались. Попали как-то в монастырь. На удивление, приняли нас даже очень милостиво. Помыли, переодели, накормили. У нас появились обязанности. Мама помогала на кухне, я – в лазарете. Пробыли мы в монастыре около месяца и вынуждены были уйти перед очередной проверкой. Дело в том, что раз в месяц местные власти проверяли документы у всех постояльцев монастыря. У нас документов не было и игуменья посоветовала нам уйти и устроиться где-то на ферме. Она дала нам что-то с собой и выпроводила за ворота.
Не долго довелось быть на воле. Нас задержал полицай и доставил в участок. Там хотели нас отправить в очередной лагерь. Мама упала на колени, умоляя не делать это. И нас отвели к фермеру Фильге в село Вайндорф. Там приходилось делать все, что приказывал хозяин. Я научилась доить коров быстрей мамы.
Когда нас освободили американцы, нас взяла к себе соседка Фильге, добрая и ласковая фрау Мария. Я напомнила ей ее погибшую при бомбежке внучку. Она очень меня полюбила и просила маму, чтобы мы остались у нее навсегда. Наследников у нее не было. Она обещала маме обеспечить мне хорошее будущее.
Мы были счастливы, когда услыхали о Победе. Но американцы не спешили отправлять нас на родину. Они предлагали нам любую капиталистическую страну для постоянного места жительства.
С большими сложностями, пройдя фильтрационные лагеря, добрались мы в наш родной, любимый Киев, нашу Родину. Но квартира наша была занята. Мама боялась куда-то обращаться, хлопотать. Был конец 45 года. Мы скрыли от всех, что были в Германии. Ходили слухи, что за это наказывают, вплоть до тюремного заключения. Нам пришлось почти год скитаться по добрым людям. Денег и продуктовых карточек у нас небыло. Мама искала работу с общежитием.
И вот, наконец, к великой нашей радости, маму взяли санитаркой в Ортопедический институт и дали в общежитии одно койко-место с тумбочкой при нем. Мы ликовала! Появилась прописка, дали продуктовые карточки и назначили маме жалованье.
Меня еле определили в школу. Я ведь была переростком. И вот, я, долговязая, худая, 13-летняя, села за парту в 3 классе.
В 53 году я прилично окончила школу. Правда, я была очень болезненным ребенком. Стала терять память, потом откуда-то взялась малярия, ревматизм. Из-за болезней меня часто освобождали от экзаменов.
Когда я была в средних классах, мы часто ходили на субботники восстанавливать Крещатик.
Помню я, как на площади Калинина (Независимости) вешали немцев — нацистских преступников. Мы сбежали с уроков. Один сорвался. Процедуру повторили.
Папа пропал без вести. Мама очень болела. Много раз нас пытались выгнать из общежития, пока нас не защитил депутат. Маме дали ІІ группу инвалидности и отгородили нам для жилья кусок подвального коридора.
Как я уже говорила, никто не знал, что мы были в Германии. Мы чувствовали себя без вины виноватыми. Но, несмотря на это, я была и пионеркой, и комсомолкой.
После окончания школы в 1953 году я поступила в Киевский инженерно-строительный институт на факультет промышленного и гражданского строительства. Окончила институт в 1958 году. Когда я была на 5 курсе нам, наконец, предоставили комнату в 3-х комнатной квартире.
На одной из конференций, где мне довелось присутствовать, сообщалось, что только 6% детей, бывших малолетних узников получили высшее образование. Я, наверное, вошла в это число.
После окончания института я получила направление в НИИ строительного производства Академии строительства и архитектуры УССР.
У меня есть сын и дочь. Обоим я дала высшее образование. Есть две очаровательные внучки.
Ужасы той жизни остались в душе навсегда, потому что пришлось пройти путь угнетения, голода, ежечасного страха смерти. Закипает слеза, когда вспоминаешь о пережитом. Не ослабевает ненависть к фашизму во всех его проявлениях.
Наверное, не найти в нашей стране семьи, куда бы не принесли фашисты страданий. Нет семьи, где не было бы погибших, пленных, изгнанных, казненных. Многих людей убивали только за то, что они другой крови, другой веры. Это было массовое, индустриальное уничтожение людей.
Да, детство было искалечено, здоровье подорвано. Рубцы остались на всю жизнь. От этого избавиться нельзя! Это простить невозможно!
Обидно и горько, что и сейчас гибнут и страдают люди. Этого не должно быть никогда! Пусть никогда не повторяются ужасы войны! Пусть никогда не исчезает солнце в черном дыме войны, в человеческих страданиях и горе! Пусть нашим младшим поколениям не доведется испытать то, что когда-то выпало на долю их отцов, дедов и прадедов! Пусть молодое поколение помнит, какой ценой добыта наша мирная жизнь и чистое небо.
Хочется, чтобы люди бережнее относились к мирной жизни и несли в нее только мир и добро.