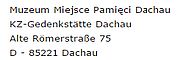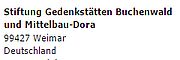Корнейчук Таисия Александровна
Дитя войны
Боль утрат и горе страданий выливаются из сердца на бумагу.
Война! Как много судеб ты изменила, сколько горя ты всем принесла!
Отец мой — Гришин Александр Васильевич был военнослужащим, офицером танковых частей. Принимал участие в финской и польской кампаниях, воевал в Испании, за что был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени. Вернулся из Испании, когда мне от роду был месяц. Встречали «испанцев», как Гагарина. Предложили на выбор любой город. Таким образом мы переехали в Киев, в военный городок в Святошино. Потом было Ровно и опять Киев. Когда мы жили в Ровно, отец, уходя на службу, всегда предупреждал маму: «Не ходи под окнами (бендеровцы стреляли)».
Когда началась война, мне было 3 с половиной года, сестренке — 1 год и 5 месяцев. Отец ушел из дома за три дня до начала войны. Больше мы его не видели. Я его не помню, так как в свои 3,5 года редко его видела. Знаю его только по одной фотографии, которую вернули маме из военкомата (он снят с орденами за Испанию). Когда в 25 лет я была у родственников отца в Брянской области, мне дали его другую фотографию, но я не смогла его узнать.
Родилась я 23 сентября 1937 г. (страшный сталинский год) в местечке Старые дороги Минской области, в военном городке. Мама моя, Гришина Нина Ивановна, родом из Белорусии, была в польском детдоме в Бобруйске с двумя братьями. Так что корни мои русско-белорусские, а замужем я за украинцем. Дети мои — производное трех славянских народов.
Когда объявили, что началась война, мама приняла решение немедленно уехать с двумя детками, так как немцы семью военнослужащего, коммуниста, не пожалуют. Три дня с самыми необходимыми в дороге вещами сидели мы в Ботаническом саду, где ожидали своей очереди все эвакуировавшиеся. В Киеве жила семья очень большая, дальние-дальние родственники папины, к которым мы всегда заходили в гости, когда выбирались в Киев. Мама просила, чтобы с ней поехали одна или две дочери родственников — очень тяжело в дороге с двумя малолетками женщине (маме) небольшого росточка, 23 лет от роду. И дочерей бы увезла от немцев, и ей было бы легче.
Но не согласились родственники, уговаривая ее остаться у них. И, конечно же, они пострадали. Двух дочерей немцы расстреляли, сына угнали на принудительные работы, а оставшиеся члены семьи всегда писали в биографии, что были на оккупированной территории.
Мама же поехала в дальние странствия через Харьков. В Харькове заболела сестренка, и пришлось ее оставить в больнице. Через месяц мама возвращается за ней, оставив меня в поезде на попечение эвакуированных. В Харькове ей помогает найти дочку маршал Буденный, дает машину, чтобы мама успела, забрав сестру из больницы, на поезд и смогла догнать тот состав, в котором осталась я.
Дороги эвакуации — это целая история трагедий и страхов. Добрались мы в Сталинград к зиме 1941-1942 г.г. Поселили нас у хозяйки. Опять заболела сестренка и за три дня умерла от кори. Мы с ней спали «валетом» в одной кровати, я корью так и не заболела. На дворе 40-градусный мороз. Похоронить человека в такой мороз невозможно. В одну могилу поставили один на другой три взрослых гроба и сверху — маленький гробик сестры.
Немец подступал к Сталинграду. Наше «путешествие» продолжалось. К Сталинграду стали отступать русские солдаты, голодные, холодные, уставшие. В хаты их не пускали. Они садились под хатой, засыпали от усталости… и замерзали.
Наш путь лежал через Каспийское море в Узбекистан. Страшная картина посадки на пароходы. Люди, обезумевшие от страха, падали в воду, пытаясь по трапам попасть на пароход. Потом Узбекистан, г. Ургенч. Мама, не работая до войны, в Ургенче работала в райсобесе. Когда мы приехали в Ургенч, нас уже ждала «похоронка»: «Ваш муж, Гришин Александр Васильевич, пал смертью храбрых за Родину 10 августа 1941 года». Это было где-то под Малином, Житомирская область. «Где-то» — так как могилы отца нет. Начало войны, ее внезапность, первые отступления — может, сгорел в танке. Никто не даст ответа. Много лет мы с мамой занимались этим вопросом, но, … увы! Писали Мересьеву и в военные архивы.
Итак, я осталась с мамой вдвоем, одни на белом свете. Как только освободили Киев в ноябре 1943 года, по вызову Министерства социального обеспечения Украины мы вернулись в Киев в марте 1944г. Возвращались не через Каспийское море, а через пески Кара-Кум, Кизыл-Кум автобусом. Долгие месяцы возвращения… Вернулись к сожженному пепелищу. Военный городок в Святошино разбомбили, отец погиб, к кому идти, у кого склонить голову? Какое-то время пожили у далеких родственников. Жили они на улице Соляная (параллельно ул. Артема) — свидетели страшного зверства в Бабьем Яру. Добрые люди помогли нам найти подвал (9 м2) — бывший соляной склад, в котором мы с мамой прожили 18 лет до «хрущевской оттепели» и первых строек жилых домов.
18 лет жизни по соседству с крысами. В подвале окно было в земле, и часто мальчишки из озорства забрасывали дохлых крыс к нам в форточку (занавески на окне не было лет пять после войны). Рядом жила соседка, которая торговала салом на базаре, поэтому вывести крыс, бороться с ними было невозможно. Уже переселившись в Дарницу в 60-е годы, я часто просыпалась по ночам, так как во сне видела крыс. Наш кот каждый день приносил нам под дверь задушенную крысу (большую, как свинья), и потом через форточку мама кричала соседям, чтобы помогли нам открыть дверь.
Когда мы жили в подвале, нас трижды обворовывали, хотя и воровать то было нечего. Помню, как я шла в школу на следующий день, и вместо платка мама мне на голову завязала матросскую кофточку рукавами за шею.
Как семье погибшего, нам выделяли американскую помощь. Из одного пальто мне перешили пальто (я была в 4-м классе). Как-то, возвращаясь домой (а жили мы на Подоле — воровской район), я услышала, что за мной кто-то идет впритык. Перепуганная, пришла домой — мама посмотрела, а пальто на спине было разрезано бритвой.
Эти, казалось бы, «мелочи» отравляли нашу безрадостную жизнь, и часто мы с мамой, как две подружки, плакали, лежа на кровати. Помочь было некому. Родных никого — ни сестер, ни братьев, ни бабушек, ни дедушек, ни тетей, ни дядей, только я и мама (ей было после окончания войны 27 лет). Замуж она так и не вышла и прожила со мной до 81 года.
Жили очень бедно. Мама получала 40 рублей зарплаты и 20 рублей пенсии за погибшего отца. Один раз в месяц она ездила получать в Национальный банк (на ул. Институтской) пенсию и привозила оттуда обязательно 100 г. “Любительской” колбасы (мясо с прожилками сала) и заварное пирожное за 22 коп. Это всегда был праздник. Как-то после войны мы нашли красную тридцатирублевку с портретом Ленина (3 руб. новыми деньгами) и так бежали с мамой, чтобы никто не отнял. Зашли на базар и купили французскую булочку и 2 кусочка коричневого сахара. Это был настоящий пир.
У меня не было зимней обуви (это где-то в 1946-1947 г.г.), так дедушка (дальние наши родственники) подарил мне битые валенки 39-40 размера на ножку 8-летней девочки. Когда меня вызывали отвечать, я спрыгивала с подоконника и часто, цепляясь нога за ногу, летела по полу к доске. И сколько было гордости, когда где-то в 6 классе мне сделали на протезном заводе кожаные модельные туфли. Я одела их на экзамен, а учительница географии говорит: «Тася, не скрипи, мы и так видим, что у тебя новые и красивые туфли».
После войны, вернее, возвращения из эвакуации, я три года болела малярией, до 18 лет состояла на диспансерном легочном учете. Живя в подвале, потеряла зрение, но отказалась в 18 лет оформлять инвалидность по зрению.
Братья мамины погибли в Белоруссии. Мы жили с мамой вдвоем. Только после моего замужества нас разыскали папины брат и сестра (через 20 лет) из Брянска. Они долгое время жили в землянках (партизанский край).
Училась я хорошо. Окончила Киевский институт легкой промышленности. Вырастила сына и дочь. У меня трое внуков.
Если бы не перестройка, которая свела на «нет» весь путь послевоенной жизни и труда — и мы, пенсионеры, оказались « у разбитого корыта», нищие, морально уничтоженные…
Я помню, как школа при поступлении в пионеры вручила мне галстук — как дочери погибшего и лучшей ученице. Галстук был розовый, сатиновый, и берегла я его до 14 лет, пока не поступила в комсомол. А у детей, отцы которых вернулись с фронта даже инвалидами, галстуки были шелковые. Я о таком даже не мечтала. Когда мои дети поступали в пионеры, я покупала им каждый год шелковые галстуки.
И еще помню — на физкультуре я сидела всегда на скамье (как «запасная» в футболе), так как у меня не было шаровар. С каким удовольствием я забралась по канату в 10 классе, когда у мамы появилась возможность приобрести мне шаровары.
После войны поступила в школу. Умела читать и писать (в эвакуации один инженер из Ленинграда меня научил читать по напечатанному в газетах Гимну Советского Союза). В школе зимой было холодно, и нам разрешали по очереди вставать и во время урока тихонько, никому не мешая, притоптывать ногами, пытаясь их разогреть. Или такой эпизод — столы в классах были, а стульев не было. Каждый приносил табуретку из дома. У нас с мамой никакой мебели не было. Одни соседи подарили две спинки от кровати, другие — цаги, вместо матраца поставили ящики. Дальние родственники дали нам один табурет. Во дворе стояла треножка, в которую вставлялась миска, и немцы мыли лицо и руки. Так вот эту треножку мы с мамой приспособили как этажерку для книг. А в школе я сидела на окне (на подоконнике), так как у нас не было лишней табуретки.
Помню, как учительница первых четырех классов каждый день раздавала нам, голодным детям, бублики и сахар. Обязательно исчезал один-два бублика, наиболее голодные ухитрялись спрятать в рукаве, чтобы получить второй. А сахар мы получали на кончике линейки прямо в рот.
Портфеля, тетрадей практически у меня не было до 8-го класса. Писали мы на желтой бумаге (в которую на почте заворачивают посылки). Вместо резинки мы брали черные резиновые пробки из бутылок и терли ошибки, протирая бумагу или тетрадь до дыр.
Все это было, и тем приятнее сознавать, что в этих трудностях мы выросли, выучились, многого добились и верили в светлое будущее.
А теперь мы, «дети войны», не заслужили у государства никаких льгот за наше детство, за нашу тяжелую юность и безрадостную старость.